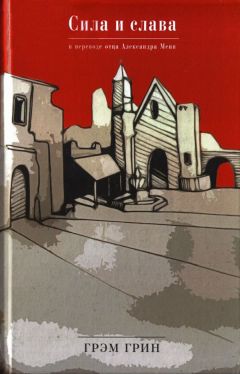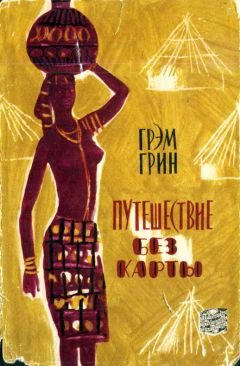Грэм Грин - Путешествия без карты
Слово «рок» часто звучит в этом фильме, но нет в мире другой киноактрисы, которая сумела бы столь убедительно, сильно, без всякой фальши выразить идею рока, которая смогла бы заставить нас поверить, что с момента ее первого появления на московской платформе, когда ее лицо возникает из клубов паровозного дыма, и до самой последней сцены, когда сознание оставляет ее под перестук вагонных колес, она неотвратимо приближается к роковой черте.
Что может сделать кинематограф с актрисой ее дарования и ее типа? В картине, где строго соблюдаются законы кино, основное внимание уделяется изобразительному ряду и движению, а уж потом — диалогам. Тут в первую очередь требуется мастерство режиссера, а не сценариста или актеров.
Техника театральной игры, которой, находясь под обаянием личности Греты Гарбо, вынуждены следовать все актеры в «Анне Карениной», — все эти замедления действия, нужные для того, чтобы дать нам возможность подольше слышать ее восхитительный голос, видеть ее искаженное страданием лицо, — требует, для достижения необходимого эффекта, такого уровня актерского искусства, который многим актерам попросту недоступен, за исключением разве что Бэзила Рэтбоуна, исполнителя роли мужа Анны, создавшего яркий и щемящий образ человека, чья жизнь свелась к попыткам сохранить внешнее достоинство. Фредрик Марч, неизменно великолепный в девяноста девяти фильмах из ста, потому что его режиссеры всегда точно определяют для него рисунок образа, здесь, полагаясь на свою интуицию, выглядит неубедительно.
Личность Греты Гарбо — вот что «делает» этот фильм и придает окончательную форму этой безукоризненно точной, добросовестной экранизации, в известной мере передающей все величие романа. Никакая другая актриса не смогла бы до такой степени выразить силу физической страсти, чтобы зритель ощутил и поверил в ее достоинство и возвышенность. И все же нет другой актрисы, чье обаяние так мало зависело бы от ее собственной женственности.
Вспомните эту одинокую фигуру в углу заиндевелого вагона под тусклым светом фонаря, с уродливыми тенями на лице, подчеркивающими каждую морщинку, — она больше похожа на мужчину, чем на женщину. Ее красота груба, резка — как у арабки, и тут мне приходят на ум строки Йейтса о посмертной маске Данте:
Тот призрак мог быть каменным лицом,
Что со скалы многоокой смотрит
На крышу бедуинского шатра
Или в траве лежит меж куч помета
Верблюжьего… 1
1 Пер. А. Казарновского.
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
Меня иногда удивляет, серьезно ли у нас относятся к кинокритикам. Правда, критика, быть может, и впрямь кажется нам чем‑то превосходящим наше понимание, однако появление «Сна в летнюю ночь» показало, вне всякого сомнения, что никто, кроме критика, не в состоянии овладеть искусством шамана или тайнами спиритических сеансов. Мы — великолепные медиумы, или, может быть, это просто бессознательная симпатия к поэту заставляет какого‑нибудь Ласкома Уайта объявить нам, что Шекспир, «будь он жив сегодня», был бы доволен экранизацией своей пьесы, сделанной герром Райнхардтом. «Самый его дух восставал против тесных пределов освещенной свечами сцены. Ему понадобилось силой своего воображения взрастить дикие леса, где среди корявых деревьев обитают фантастические существа, коих он облек в столь зримые одеяния». Содержательная сентенция, не правда ли, уж точно сорвавшаяся прямо с поверхности доски для спиритических бесед.
К сожалению, медиумы не похожи друг на друга. Сидней Кэрролл сообщает нам еще более авторитетным тоном, что Шекспиру фильм мог бы и не понравиться. Он говорит, что «его долг, как человека, чьи предки с обеих сторон были чистокровными британцами, — постараться защитить и обезопасить нашего национального поэта–драматурга и от обожествления, и от осквернения. Действительно, нам, кинокритикам, как я уже сказал, все по плечу (правда, если не касаться собственно критики).
Увы, мне не удалось связаться с Шекспиром (мое английское происхождение не столь безукоризненно, как у мистера Кэрролла), но я убежден, что Анна Хэттауэй, «будь она жива сегодня», согласилась бы, что это очень милый фильм (я, правда, не знаю, что сказала бы Смуглая леди сонетов). Ей бы понравился хор подающих надежды Ширли Темпл, воспаряющих сквозь прозрачную дымку при мощном свете тевтонской луны, и я не сомневаюсь, что ей бы понравился Медведь. Ибо герр Райнхардт понимает все очень буквально, и, когда Елена заявляет: «Нет, я дурна, противна, как медведь. Зверь на меня боится посмотреть», мы видим, как огромный черный медведь поспешно убегает прочь, продираясь сквозь заросли черничных кустов. И все же картина доставила мне удовольствие, возможно, потому, что я не особенно люблю эту пьесу, которую, как мне кажется, Шекспир писал с явным намерением с первой же попытки получить «универсальный сертификат».
Но герр Райнхардт, наделенный скорее богатейшей фантазией и изобретательностью, нежели воображением, слабо разбирается в новом для себя жанре. Хотя в созданных им картинах афинских лесов с серебристыми березами, густыми мхами, глубокими озерами и густыми туманами встречаются эпизоды исключительной красоты, все остальное невероятно банально. После замечательной сцены, когда крылатые слуги Оберона загоняют фей Титании под его развевающийся черный плащ, мы видим, как один из них, посадив последнюю фею себе на плечо, уносится с ней в ночное небо. Это очень эффектное зрелище: он погружается по колено во тьму, но когда камера вот она, истинная тевтонская скрупулезность следит за его постепенным исчезновением до тех пор, пока не остается лишь пара белых ладоней на фоне Млечного пути, смех в зрительном зале обнаруживает хороший вкус публики.
В таком же духе — на грани нелепости — выдержана вся экранизация, ибо герр Райнхардт не может воочию представить себе, как его идеи будут выглядеть на киноэкране. Он ни на мгновение не дает нам забыть, что он — театральный режиссер, пусть и обладающий теперь безграничными возможностями на почти безграничной сцене. Во время диалогов мы словно оказываемся у края освещенной сцены, и камера неизменно фиксируется на лице говорящего. Более непринужденные, более кинематографические эпизоды сняты под музыку Мендельсона — вот так, разумеется, и нужно воплощать на экране поэзию Шекспира, чтобы избежать замедления действия. Вообще, к поэзии следует подходить как к музыке, а не как к сценическим репликам, вложенным в уста персонажей, словно подписи к журнальным карикатурам.
Актерская игра свежа и выразительна — по той очевидной причине, что в ней нет того, что Кэрролл называет «настоящей шекспировской интонацией и достоинством». Но не хочу показаться нелюбезным. Фильм не нагоняет скуку, а заключительные эпизоды, когда персонажи возносятся по лестнице в спальню и летучие феи на рассвете заполняют залы дворца, являются истинным и довольно эффектным воплощением образов «сладкого покоя», «мерцающего света», «сонного мертвенного огня».
«НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
Я слишком большой поклонник Чаплина, чтобы поверить, будто самая важная сцена в его новом фильме — это те несколько минут, когда он поет песню и мы слышим его приятный, чуть хрипловатый голос. «Маленький человек» наконец освоился в современной жизни. До сих пор во всех его фильмах всегда присутствовали приметы его эпохи — мужество, противостоящее невзгодам. Правда, он никогда не ограничивался просто веселыми сценками в стиле Карно, с их нравами, нелепой одеждой, патетикой, старомодной нищетой. Вспомним его случайные встречи со слепыми цветочницами, или его похождения по городским трущобам, или появления в миссионерских хижинах, обитых смолистыми сосновыми досками, куда он забредал со своей котомкой и где его пантомима превращалась в назидательную проповедь на тему, почерпнутую из собственного житейского опыта, вроде притчи о Давиде и Голиафе, — во всех этих ситуациях казалось, что он пытается идти по стопам Диккенса.
В этом фильме перемены сразу бросаются в глаза — хотя бы уже в самом выборе героини: раньше они были хорошенькими, но бесцветными, словно лица на поблекшей любительской акварели. Таких девушек никогда не приглашали еще раз сняться в главной роли, настолько они были лишены индивидуальности. Но вот мы видим Полетт Годдар, смуглую, черноглазую, с забавным лицом простушки–горожанки, и понимаем, что «маленькому человеку» уже больше не придется балансировать на грани слезливой псевдопатетики, общаясь со слепыми девушками и малолетними сиротами. Глядя на нее, мы ощущаем те же чувства, какие в «Принцессе Казамассиме» испытывал Гиацинт к Миллисент: «Она смеялась, как смеются простолюдинки, но, если ее ударить побольнее, она, подобно простолюдинке, могла залиться горючими слезами». Помахивая тросточкой и щегольски заломив свой потрепанный котелок, «маленький человек» впервые начинает странствия по бесконечной дороге, протянувшейся через весь экран, не в одиночку. Вместе со своей спутницей он отправляется на поиски приключений. Сначала судьба готовит ему работу на огромной фабрике, где он должен завинчивать гайки на мелких деталях каких‑то непонятных механизмов, проплывающих мимо на ленте конвейера под неусыпным телевизионным оком менеджера, оком, которое следит за ним даже в туалете, где он ухитряется выкурить запрещенную сигарету. Эксперимент с автоматической кормилицей, позволяющей накормить рабочего без отрыва от производства, сводит его с ума (сцена, когда эта машина, вооруженная салфетками для вытирания губ, подает блюдо с индейской кукурузой, — чрезвычайно смешная, я думаю, это лучшая сцена из всех, когда‑либо придуманных Чаплином). После выхода из лечебницы его арестовывают как коммунистического вожака (он подобрал с земли упавшее с грузовика красное полотнище) и выпускают лишь после того, как ему удается предотвратить налет на тюрьму. Безработица и тюрьма — вот основные вехи его жизненного пути. Полуголодное существование сменяется полосой удач, и в какой‑то момент он привлекает на свою сторону таких же, как и он сам, изгоев общества.