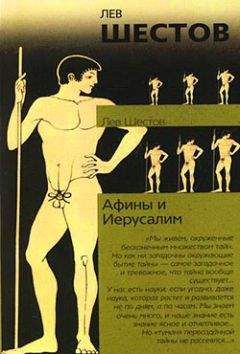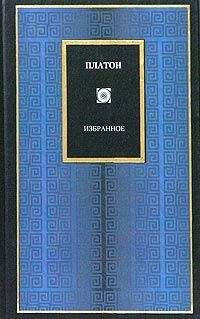Афины и Иерусалим - Шестов Лев Исаакович
Нельзя, конечно, допустить, что средневековые философы сознательно шли против того, о чем свидетельствовало Писание, как нельзя тоже допустить, что они говорили о Библии «много лгут певцы», как сказал Аристотель о Гомере. Но принятые ими от греков основные принципы мышления сделали свое дело. Схоластики готовы были опорочить акт творения, усомниться во всезнании Божием – только бы не быть принужденными признать недостаток в самом разуме. Они как ни в чем не бывало говорили о «непреодолимом законе», вписанном в бытие сотворенного, о том, что и Богу не дано стряхнуть с себя этот неизвестно откуда и кем навязанный закон, как Ему не дано создать круглый квадрат. Мало того – спокойно говорили: похоже, что каждый раз, когда им представлялся случай убедиться, что они стоят пред невозможностью, которую не дано преодолеть и Богу, они, как писал Достоевский, испытывали почти мистическое чувство удовлетворения и глубокого внутреннего мира: невозможность, каменная стена, дважды два четыре, – стало быть, должно и можно остановить. [144] Круглый квадрат – истина, равно непререкаемая и для человека, и для Бога, оказывалась благодатным, упавшим с неба даром, как и «познай самого себя» и другие бесспорные истины, которые, как тоже упавшие с неба, еще в древние времена подобрала греческая философия: они обеспечивают «знание» (eritis sciemis). Но ведь круглый квадрат не имеет никаких преимуществ перед горой без долины, о которой мы слышали от Декарта. Если гора без долины ставит предел только человеческому мышлению и не ограничивает всемогущества Божия, то почему же круглому квадрату дана такая неожиданная власть? Или то, что говорит Декарт, нужно понимать как метафору? Он и сам не считал, что Бог может создать гору без долины, и не допускал, что средневековая философия, от которой он принял Библию, возвещающую возможность гор без долин и круглых квадратов, когда-либо это допускала: такое можно сказать, такого нельзя думать, как учил maestro di coloro chi sanno. Вечные истины не сотворены Богом, а черпаются и людьми и Богом из intellectus separatus. Аристотель судит Св. Писание, а не Писание Аристотеля: закон противоречия есть (βεβαιωτάτη τω̃ν ἀρχω̃ν πάσω̃ν) самый непоколебимый из всех принципов, ему покоряется все, он, не испрашивая ни у кого соизволения, вписывает все, что ему вздумается, в книгу Бытия, и сам Творец не может ему противиться. Хотя нам еще придется говорить об этом, но, пожалуй, небесполезно и сейчас привести свидетельство Лейбница о том, что зло, которое имело у греков свое начало в материи, по «христианскому учению» коренится в несотворенных идеальных принципах, в тех вечных истинах, которые, как мы знаем уже, вошли в разумение Бога, не считаясь и не справляясь с Его волей.
Мы снова убеждаемся, что средневековая философия в центральном для нее вопросе должна была отречься от своей главной задачи – принести миру неизвестную древним идею о сотворенной истине. Допустимо еще, что Бог сотворил мир, – этому и Платон учил. Но истины не сотворены Богом, они существуют до Него, без Него и от Него не зависят. Правда, у средневековых философов мы встречаемся и с понятием сотворенной вечной истины. Таким образом, они как бы приобретают право говорить о «непреоборимых» и «непреодолимых» даже для Бога условиях бытия и существования. Но покупают это право дорогой ценой внутреннего противоречия: ибо если истина сотворена, то, как мы сейчас слышали, она уже никак не может быть вечной и неизменной, даже если бы Бог того захотел. Но по отношению к сотворенной истине проявляется снисходительность, которой тщетно добивается живой человек. Сотворенный человек неизбежно несовершенен и не вправе рассчитывать на вечное существование. Ради истины же даже сам закон противоречия готов поступиться своими державными правами: он разрешает ей, сотворенной, неизменность, в которой отказано живым существам, пренебрегая великим заветом: «credere contra rationem vituperabile est» (верить противно разуму недопустимо).
С такой же беспечностью приняла средневековая философия от греков их учение о том, что зло есть только отсутствие добра, privatio boni. Для того, кто хочет понять (intelligere) зло, такое объяснение представляется совершенно удовлетворительным, ибо своей цели оно более или менее достигает. Зло естественно возникло в мире, какого еще объяснения можно требовать? И чем очевиднее неизбежность зла, тем больше чести и славы философии, эту неизбежность усмотревшей. Ведь смысл всякого «понимания» и «объяснения» состоит именно в том, чтобы показать, что то, что есть, не могло и не может быть иным, чем оно есть. В сознании неизбежности существующего (новейшая формулировка у Гегеля «все действительное – разумно») греческая философия умела находить и находила что-то «разрешающее, успокаивающее и даже мистическое». Но ведь иудео-христианская философия, поскольку она приобщилась к «откровенной» истине, имела своим назначением не укрепить, а навсегда преодолеть идею неизбежности, – об этом у Жильсона немало рассказано. Зло объясненное не перестает быть злом. Malum как privario boni не менее отвратительно и невыносимо, чем зло ничем не объясненное. И в Писании отношение ко злу совсем иное: оно хочет не объяснить, а истребить зло, выкорчевать его с корнями из бытия: пред лицом библейского Бога – зло превращается в ничто. Можно сказать, что в том и есть сущность библейского Бога, что пред Его лицом непостижимым для нас образом в «un univers оù le mal est un fait donné, dont la réalité ne saurait être niée», [145] открывается возможность того, что Жильсон называет «радикальным оптимизмом»: метафизика познания книги Бытия отказывается, в противность грекам, в «данном факте» видеть действительность, которую нельзя отрицать. Она по-своему ставит вопрос о том, что такое «факт», что такое «данное», что такое «действительность», и, памятуя «И увидел Бог все, что Он создал и вот все, все это было добро зело», она дерзновенно начинает говорить (άποτολμά καὶ λέγει) о том, точно ли «факту», «данному» и «действительности» присуща та «окончательность», которую мы им приписываем, не смея спорить с разумом и «законом» противоречия, разумом принесенным? Для Аристотеля это – безумие. Ему доподлинно известно, что τò δο̎τι πρω̃τον καὶ ἀρχή (что данное первично и есть начало – Eth. Nic. 1098b 2), или, как мы выражаемся, с фактами не спорят. И точно, «знающий» человек не спорит; он «падает и кланяется»: знание парализовало его волю, он принимает все, что ему преподносят, вперед уверенный, что знание его сравняет с богами (eritis sicut dei scientes). Но Писание учит иному. Не потому Бог что-либо делает, что знает, что это хорошо, но потому что-либо бывает хорошим, что оно сотворено Богом. Мы знаем, что эта мысль Д.Скота была отвергнута и средневековой, и новой философией. Для нашего разумения она еще менее приемлема, чем ἐπέκεινα νου̃ καὶ νοήσεως (по ту сторону разума и познания), или, точнее, плотиновское «по ту сторону» оттого так пугало и пугает нас, что за ним мы инстинктивно чуем то, что Seeberg с таким неподдельным ужасом называл ничем не сдержанным и беспорядочным произволом. Но как бы нам ни казалось это страшным. Бог Св. Писания не связан никакими правилами, никакими законами: Он источник всех правил и всех законов. Он господин над всеми правилами и законами, как Он господин над субботой. Дерево познания добра и зла было посажено Богом наряду с деревом жизни, но не для того, чтобы человек питался его плодами. Самое противупоставление добра злу, т. е., точнее, появление зла, приурочивается не к акту сотворения мира – тогда только было «добро зело», – а к моменту падения нашего праотца. До того же свобода не только божественная, но и человеческая не была ничем ограничена: все было хорошо, потому что Бог это делал, все было хорошо, потому что человек, созданный по образу и подобию Бога, это делал: в этом сущность загадочного для нас библейского «добро зело». Свобода же как возможность выбора между добром и злом, которую знали греки и которую от греков переняла средневековая, а за ней и новая философия, – есть свобода павшего человека, есть порабощенная грехом свобода, пропустившая в мир зло и бессильная изгнать его из жизни. Поэтому чем больше укрепляется человек в уверенности, что его спасение связано с «знанием» и с умением различать добро от зла, тем глубже прорастает и прочнее вкореняется в него грех. Он отрывается от библейского «добро зело», как он отвернулся от дерева жизни, и свои упования связывает только с теми плодами, которые он сорвал с дерева познания. «Bonum et malum quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus», как выражались пелагианцы, т. е. похвалы и порицания за хорошие и дурные дела становятся для человека даже не ценностью по преимуществу, а единственной духовной ценностью. Фома Аквинский – и тут он ничем не отличается от других средневековых философов – спокойно, явно не подозревая даже, что он делает, ставит вопросы «utrum credere sit meritorium» (есть ли заслуга в вере?). Но ведь вера есть дар, и притом величайший, какой только может человек получить от Творца, – еще раз напомню οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμίν (ничто для вас не будет невозможно). Причем же тут и для какой надобности наши заслуги и похвалы того, кто стоял на страже дерева познания? И не он ли подсказывает людям такого рода вопросы? Конечно, если свобода есть только возможность выбирать между добром и злом и если вера есть результат такого выбора, когда он определяется добром, то приходится говорить о человеческих заслугах и даже признать, что наши заслуги не могут быть не оценены на суде Божием. Но тот суд, на котором наши заслуги решают нашу судьбу или даже хотя бы имеют влияние на то, как решится наша судьба, суд, на котором награждается добродетель и порок казнится, не есть «страшный суд» Писания, а человеческий понятный суд греческой морали. В Писании одному раскаявшемуся грешнику отдается предпочтение перед десятком праведников, блудному сыну радуются больше, чем сыну верному, мытарь проходит впереди благочестивого фарисея, в Писании солнце равно восходит и над грешниками, и над праведниками. Но даже так беспощадно обличавший Пелагия бл. Августин с трудом выносил «имморализм» Писания, и из его груди вырывается вздох облегчения, когда он, думая об ином мире, может позволить сказать себе: «ibi non oritur sol super bonos et malos, sed sol justitiae solos protegit bonos» (там солнце не восходит равно над добрым и злым, а солнце справедливости охраняет только добрых).