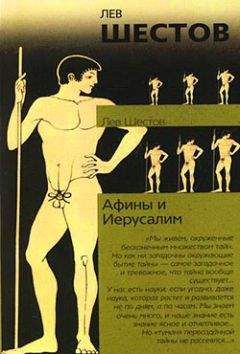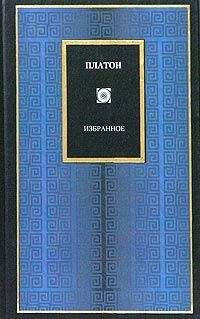Афины и Иерусалим - Шестов Лев Исаакович
Греческая философия здесь останавливается. Тут остановилась и «Критика чистого разума». Но Достоевский чувствует, что тут остановиться нельзя, что здесь именно должна начаться «критика». «Дважды два четыре (т. е. самоочевидная истина), – пишет он, – есть уже не жизнь, господа, а начало смерти: по крайней мере человек всегда боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь». И затем вдруг вырывается из него такое: «дважды два четыре – это нахальство; дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги и плюется». Самоочевидности и разум, так жадно к самоочевидности стремящийся, не удовлетворяют, а «раздражают» Достоевского. При встрече с самоочевидными истинами он бранится, смеется над ними, высовывает им язык. Он хочет жить не по разумной, а по своей «глупой свободе». Нам представляется это пределом парадоксальности (чтоб не выразиться сильнее): мы не допускаем таких выражений. Наши великие учителя стояли точно в оцепенении пред разумом и открываемыми им истинами и нас приучили к тому же. Не только поэтически настроенный Платон, но и трезвый, μέτριος εἰς ὑπερβολήν (чрезмерно умеренный) Аристотель, зачарованные плодами с дерева познания, которые и по Писанию приятны для глаз и вожделенны для созерцания, слагали несравненные гимны в честь и во славу разума. Я не могу задерживаться слишком долго на этом, но, чтоб напомнить читателю, какую власть имела над умами лучших представителей античного гения открытая ими метафизика бытия, я приведу небольшой отрывок из «Никомаховской этики», который наряду с другими местами той же «Этики», равно как и «Метафизики», являет собой наиболее сдержанное выражение того, чем определялись искания греческой философии ω̎στε ἡ του̃ θεου̃ ἐνέργεια, μακαριότητι διαφέρουσι, θεωρητικὴ α̎ν ει̎η. καὶ τω̃ν ἀνθρωπίνων δὴ ὴ ταύτη̨ ουγγενεστάτη εὐδαιμονικωτάτη, т. е. деятельность Бога, превосходящего всех блаженством – есть чисто созерцательная, и из человеческих деятельностей наиболее всего блаженна та, которая ближе всего к божественной. [133] Если, как указывает Жильсон, слова haec hominis est perfectio, similitude Dei (совершенство человека есть богоподобие – II, 85) выражали собой устремления Аквината, то и платоновский «катарзис» сводился к ὁμοιώσις θεω̃ κατὰ δύνατον (возможному уподоблению Богу – Theat. 176е). ’Αλήθεια (истина), приоткрывшаяся грекам (ἀ-λανθάνειν), – неизменная сущность бытия под изменчивой видимостью обычного и всем доступного мира, и созерцание этой сущности владело всеми помышлениями и желаниями их.
И когда Достоевскому, несмотря на то, что он принадлежал к тем simplices et indocti (простым и неучам), о которых нам говорили бл. Августин и Аквинат, или, точнее, потому что он столько лет провел в уединенной беседе с теми simplices et indocti, которые принесли миру Библию, в свой черед «открылось», что прославленное греками созерцание есть преклонение пред каменной стеной и мертвящим дважды два четыре и что хваленая свобода философского исследования прикрывает собой enchantement et assoupissement surnaturel, что оставалось ему делать? Спорить нельзя. Аристотель ограждает себя, как крестом своим: «такое можно сказать, такого нельзя думать», и даже вольнолюбивый Д.Скот не стесняется сказать «non est cum eo disputandum, sed dicendum quod est brutus» (с ним не должно спорить, а надо сказать, что он не разумен). Конечно, в последнем счете Достоевский не над другими издевался и не с другими спорил – ни с Сократом, ни с Платоном, ни с Аристотелем: он с мучительным напряжением преодолевал в себе падшего человека, ту cupiditas scientiae, которую наш праотец, вкусивший от плодов запретного дерева, передал нам всем. Оттого он мог, он должен был сказать, и даже не сказать, а возопить: «Я стою за свой каприз, и чтоб он мне был гарантирован», или: «хочу жить по своей глупой, а не по разумной воле». Он спасался от соблазна «будете, как боги, знающие» и «все это дам тебе, если, падши, поклонишься» и того безотчетного, но непреодолимого страха пред «беспорядочным» и «ничем не сдержанным произволом» Бога, который был, по-видимому, внушен искусителем уже первому человеку и стал, после падения, нашей второй природой. Смысл Audi, Israël (Слушай, Израиль!) в том и заключается, что все зависит от воли Божией – omnis ratio veri et boni a Deo dependit, [134] оттого и написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И только тому, кто освободится ἀπò τη̃ς δουλείας τη̃ς φθορα̃ς (от рабства тлению – Рим. VIII, 21), кто преодолеет внушаемый нам нашим разумом страх пред ничем не ограниченной волей Божией и рассеет наваждение вечных, несотворенных истин, только тому дано будет вместе с пророком воскликнуть: «смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?»
VII
Неистовость и безудержность речей Достоевского, когда ему приходится говорить о самоочевидных или вечных истинах, достаточно свидетельствует о том, как глубоко почувствовал он внутреннюю, неразрывную связь между познанием и господствующим в мире злом, о которой рассказано в книге Бытия: пока и поскольку истина связана с познанием, зло неистребимо, зло представляется присущим бытию как таковому. Средневековая философия, прошедшая равнодушно мимо Тертуллиана и Петра Дамиани, но свято оберегавшая первичные принципы греков, устранила со своего поля зрения самую возможность проблематики книги Бытия, проблематики познания. Оттого она была принуждена – как и античные мудрецы – не только мириться, но и оправдывать зло. Апокалипсис с его громами, книга Иова с ее воплями так же мало говорили средневековым философам, хотевшим знать и понимать, как и повествование Библии о падении первого человека: разве громы и вопли можно противупоставлять разуму?
И громы, и вопли – до разума: разум утишит громы и подавит вопли, философ, даже если он и христианин, в «De consolatione» Боэция найдет больше, чем в Писании, или, по крайней мере, при помощи мудрости Боэция он в силах будет усмирить в своей душе тревогу, вызываемую неистовыми словами Иова и бурями и грозами откровения св. Иоанна. На второй план у средневековой философии уходило и de profundis ad te. Domine, clamavi: оно тоже совсем не ладилось с общим духом античной философии, которая родилась διὰ τò θαυμάζειν (из удивления), как учили Платон, Аристотель, и всегда предостерегала людей от безмерной скорби и отчаяния. Киркегард утверждал, что основное противуположение между греческой и христианской философией именно в том, что греческая философия направляется и имеет своим источником удивление, а христианская – отчаяние. Оттого первая приводит к разуму и noзнанию, [135] вторая же начинается там, где для первой все возможности кончаются, и все свои чаяния связывает с «абсурдом». Человек не ищет уже «знания» и «понимания» – он убедился, что знание не только бессильно помочь ему, но еще потребует от него, чтоб он в бессилии знания видел нечто последнее, окончательное, а потому – успокаивающее, даже мистическое, чтоб он, падши, знанию поклонился. Оттого у Киркегарда вере возвращается то положение, которое ей создало Св. Писание. Только на крыльях веры можно взлететь над всеми «каменными стенами» и «дважды два четыре», воздвигнутыми и обоготворенными разумом и разумным познанием. Вера не осматривается, не оглядывается назад. Средневековье, для которого греческая философия была вторым ветхим заветом, которое считало, что «познай самого себя» так же упало с неба, как и «Слушай, Израиль!», понимало мышление как оглядку: мышление Авраама, мышление пророков и апостолов, казалось ему недостаточным, требующим дополнений и исправлений, вернее – не мышлением, а отсутствием мышления. Конечно, открыто так не говорили, но все делалось для того, чтобы библейские истины по своей конструкции и содержанию приблизились к тому идеалу истины, который выработали греки и в котором уже в ранний период развития эллинской философии просвечивала аристотелевская уверенность, что «intellectus substandam esse omnio ab anima separatam esseque unum in omnibus hominibus» (разум есть совершенно от души отличная субстанция и тот же у всех людей). И как отчаянно ни бо-ролись схоластики с аристотелевским intellectus separatus (обособленный интеллект) (достаточно вспомнить полемику Аквината с Зигером Брабантским [136]), или даже чем больше боролись они, тем больше они им и соблазнялись (De An. 430a 12). ’Ο νου̃ς χοριστòς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἁμιγής, τη̃ οὐσία̨ ὠν ἐνέργεια – идеал разума, отделенного от всего, бесстрастного, ни с чем не смешивающегося, являющегося по существу своему деятельностью (в новой немецкой философии Bewustsein uberhaupt [137]), отвечал самым заветным требованиям ищущей познания и в познании находящей успокоение души. [138] Даже для Бога нельзя было придумать большей хвалы, чем представляя его себе таким, каким у Аристотеля представлен intellectus separatus. Средневековая философия отмежевалась аристотелевским «много лгут певцы» от рассказов Библии о Боге радующемся, гневающемся и т. п. исключительно затем, чтобы «возвысить» его до intellectus separatus. Лучшая часть в нас – του̃το μόνον ἀθάνατον καὶ ἀιδιον, то, что в нас есть бессмертного и вечного, [139] – наше причастие разуму. На всех размышлениях схоластиков лежит печать глубочайшего убеждения, что божественное в мироздании и в человеке целиком сводится к «отделенному от всего, бесстрастному, ни с чем не смешивающемуся разуму». Об этом нигде explicite не говорится, но implicite незримо оно присутствует во всех философских построениях. То, что мы слышали от схоластиков о законе противоречия и о других «законах» мышления (точнее, бытия), достаточно подготовило или должно было подготовить нас к оценке роли, которую аристотелевскому intellectus separatus суждено было сыграть в развитии средневековой (а также и новой) философии. «Non cadet sub omnipotenriam Dei» является ходячим и решающим аргументом при обсуждении основных вопросов: об этом свидетельствует вся книга Жильсона. Мы уже говорили о том, как истолковало средневековье сказание о падении первого человека. Приводя слова ап. Павла – «Per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit» (через одного человека грех вошел в этот мир), – который «se fait l’écho du recit de la Genèse», Жильсон пишет: «Une foie de plus, en révélant à l’homme un fait qui, naturellement, lui échappe, la révélation ouvre la vote aux démarches de la raison» (I, 123). [140] Но чего добивается разум, когда, пред лицом открывшейся ему истины о падении первого человека, он ставит себе задачей «понять» то, что он узнал из Писания? Прежде всего он озабочен тем, чтобы отвести от себя всякие подозрения: он сам никакого отношения к падению человека не имел и не имеет. Средневековая философия, пишет Жильсон, предложила «l’interprétation la plus optimiste qui soit concevable d’un univers ou le mal est un fait dont… la réalité ne saurait pas être niée» (I, 124). [141] И вот в чем это объяснение состояло: «Créés ex nihilo les choses sont et sont bonnes parce qu’elles sont créées, mais leur mutabilité est inscrite dans leur essence précisément parce qu’elles sont ex nihilo. Si donc on s’obstine à appeler «mal» le changement auquel la nature est soumise comme à une loi inéluctable, il faut voir que la possibilité du changement est une nécessité que Dieu lui-même ne saurait éliminer de ce qu’il crée, parce que le fait d’être créé est la marque la plus profonde de cette possibilité même» (ib., 117). [142] И еще раз: «Il ne s’agit pas de savoir si Dieu eût pu faire des créatures immuables, car ce serait beaucoup plus impossible que de créer des cercles carrés. On l’a vu, la mutabilité est aussi coessentielle à la nature d’une créature contingente que l’immutabilité est coessentielle à la nature de l’Etre nécessaire» (ib., 124). [143] Откуда взяла все это средневековая философия? Явно, что не из Писания. В той же главе, из которой взяты мною сейчас приведенные отрывки, Жильсон указывает, что «оптимизм» средневековой философии имел своим исходным пунктом слова Творца, повторявшиеся им в конце каждого дня творения: «и Бог увидел, что это было хорошо», и Его же слова, в которых он на шестой день, оглядываясь на все Им сделанное, свидетельствует свое полное удовлетворение: «и увидел Бог все, что Он создал, все Им сотворенное, и вот все было добро зело». В рассказе книги Бытия нет даже и отдаленного намека на то, что в самом акте творения уже заключался какой-то недостаток или порок, который делает возможным появление зла в мире. Наоборот, Писание в акте творения видит залог того, что в сотворенном может и должно быть хорошее, только хорошее. Соображения о том, что сотворенное, по своей природе, несет в себе возможность зла, средневековая философия нашла не в Писании, а у греков. В платоновском «Тимее» демиург, создавший мир, убеждается, что он далеко не совершенен, и пытается, насколько это в его силах, исправить хоть отчасти свое создание. И у Эпиктета, который как всегда несколько наивно, но зато откровенно и добросовестно рассказывает то, чему он выучился у своих учителей, мы читаем, что Зевс, не таясь, признается Хризиппу в ограниченности своих сил: не в его власти было дать людям мир и их тело в собственность, он мог им дать все это только на подержание, т. к. все сотворенное, как имеющее начало, должно иметь и конец (таков непреодолимый и для богов закон бытия: γένεσις – рождение несет с собой φθορά – исчезновение) и что поэтому он их сделал причастными божественному разуму (intellectus separatus), благодаря чему они как-нибудь приспособятся и будут существовать в сотворенном мире. Так думали греки: необходимость, даже по Платону, делить власть с божеством. Акт творения поэтому неизбежно вносил в мир несовершенство и зло. Но Библия, наоборот, исходила из того положения, что все возможные совершенства имеют своим единственным источником творческий акт Божий: Библия не знает власти необходимости и непреоборимых законов. Она принесла с собой в мир новое, дотоле не известное древним понятие о сотворенной истине, об истине, над которой Творец является господином и которая служит, должна служить ему, находится у него на посылках. Как же случилось, что она превратилась в непреодолимый закон и стала повелевать, – она, которая была создана, чтобы повиноваться? Или греческий демиург оказался просто более прозорливым и проницательным, чем иудейско-христианский творец мира? Он сразу увидел, что в мироздании не все благополучно, а библейский Бог все твердил свое «добро зело», нисколько, очевидно, не подозревая, что в силу непреодолимых законов, вписываемых таинственной рукой в природу и сущность бытия, все, что сотворено, не может быть «добро зело». В итоге средневековая философия опорочила и акт Божьего творения и вместе с тем признала, что Бог не способен был оценить по достоинству созданный Им мир.