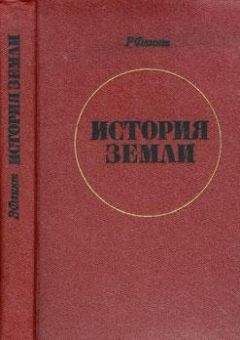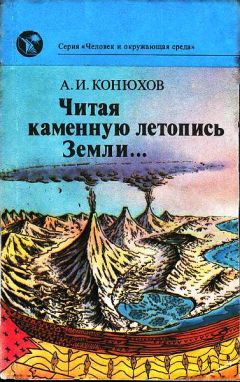Олег Радзинский - Суринам
— Алиса была аутичка, — сказал Кассовский. Он посмотрел на Илью, который уже доел все печенья с большой тарелки. — Ничего, скоро будем ужинать.
Со стороны реки кто-то прошёл вдоль стены дома и открыл входную дверь. Илья встал, чтобы встретить высокого худого светлокожего креола в зелёной одежде, что в больницах носят хирурги. У него было красивое нервное лицо и продолговатый череп, покрытый мелко свёрнутой чёрной проволокой волос. Он был немолод, но из-за худобы казался без возраста, от тридцати до пятидесяти.
Креол улыбнулся и протянул Илье руку:
— Алонсо. Извините, что пришлось ждать.
У нас сегодня трое новых больных, один операционный. Потерпите ещё немного, меньше чем через час будем есть. Моя жена скоро освободится и придёт к нам.
Доктор Алонсо обнял Кассовского без слов и сел на низкую деревянную скамеечку у стены.
Он согнул длинные ноги и положил подбородок на колени. Доктор Алонсо был похож на большого породистого добермана; казалось, он готов в любую секунду распрямиться и вытянуться в дрожащую струну.
Кассовский отреагировал на появление хозяина едва заметным кивком; он был погружён в свою историю и отказывался возвращаться в настоящее. Он был там — со своей маленькой девочкой, которая хотела ходить только по одной стороне улицы, в одном и том же голубом платье в белый горошек и в одни и те же места. Он был там, где лежали её игрушки, вытянутые в одну линию, в одном и том же порядке, раз и навсегда.
В комнату ворвалась Дилли и остановилась, увидев Алонсо. Тот внимательно её оглядел, затем посмотрел на Кассовского. Кассовский утвердительно кивнул. Доктор Алонсо что-то сказал Дилли на аравак. Та сразу притихла и села на пол, там, где стояла. Она поджала ноги и села на пятки, похожая на маленькие сидячие индейские статуэтки из тёмного дерева. Илья заметил, что на её белом платьице-халатике не хватало двух пуговиц.
— Ома не поехала учиться в Европу, — продолжал Кассовский. — Она никак не могла согласиться с тем, что Алиса больна, и часами сидела рядом, пытаясь с ней играть. Алиса никого не замечала и позволяла себя трогать лишь во время еды. Причесать её было невозможно: она кричала и вырывалась; она была очень сильная.
Алиса говорила, но её речь не была связана с общением. Иногда она часами повторяла одну и ту же фразу. Один раз она сидела всю ночь в кроватке и спрашивала:
— Ное te aan de markt te krijgen? Как пройти на рынок?
Она услышала это от кого-то на улице. После каждого третьего предложения она начинала смеяться. Почему-то этот смех был невыносимее всего.
Я лежал у себя в спальне и слушал её вопросы про дорогу на рынок и её страшный смех. Вдруг Алиса начала кричать — жутко, истошно. Я выскочил в большую комнату и увидел, как Ома бьёт девочку верёвкой для сушки белья. Ома била её молча, сосредоточенно, и маленькая Алиса металась по кроватке, пытаясь укрыться от ударов, и кричала, кричала.
Я вырвал у Омы верёвку и вытолкал из комнаты, в свою спальню. Я хотел взять Алису на руки, но она — мгновенно успокоившись — стала снова складывать в одну линию разбросанные по кровати игрушки. Я знал, что в такие моменты её лучше не трогать.
Когда игрушки были сложены, Алиса села посреди постели и стала смеяться. Она не смотрела на меня, словно я не сидел рядом с ней на полу, и просто смеялась, звонко и радостно. Затем она начала снова спрашивать, как пройти на рынок. Я ничего не мог для неё сделать и ушёл в спальню.
Ома просидела всю ночь в углу комнаты, глядя в одну точку перед собой. Мы не разговаривали и не спали. Всю ночь мы были порознь, вместе, слушая, как за стеной наша дочь произносит одну и ту же фразу, одну и ту же фразу, одну и ту же фразу, одну и ту же фразу. Она смеялась после каждого третьего предложения.
Я лежал на кровати и в уме каждый раз объяснял ей, как пройти на рынок. Когда начало светать, я заснул под её смех.
Я проснулся поздно: вокруг уже стояла липкая дневная жара. Омы не было в комнате, и я быстро собрался и пошёл на кухню. Алиса ещё спала, рядом с игрушками, выложенными в одну линию. Я спустился вниз, где меня ждал накрытый сеткой от мух завтрак, но Омы не было и там. Я не мог уйти, оставив Алису одну, и сел её ждать. Ома не пришла обратно в тот день и вообще больше не пришла.
Ома вернулась домой, к своей матери Йинг. Все мои уговоры, обещания, просьбы остались без ответа. Ома выслушивала меня молча, не встречаясь глазами, словно это она жила в своём отдельном от всех мире. Она никогда не спрашивала про Алису и никогда её не навещала. Она оставила все свои новые вещи у меня в доме, и даже одно своё старое платье — любимое, светло-лиловое, с завязками вокруг шеи — она тоже оставила в шкафу в моей большой комнате, где уже три года жила наша с ней дочка, которую Ома хотела забыть.
Йинг была довольна её возвращением: Ома быстро вернула своих постоянных клиентов, включая маленького старика-ветеринара, навещавшего её с двенадцати лет. Старик, голландец, жил за рекой и приезжал в Парамарибо каждый третий вторник. Он приходил к Оме днём, всегда после обеда, и шёл в её угловую комнату с закрытыми ставнями, чтобы туда не проникла тяжёлая вязкая жара.
Ома раздевалась и ложилась на спину, на пол. Она зажимала в зубах деревянную палочку, чтобы не кричать от боли, и старик доставал из кожаной сумки мелкие железные инструменты.
Он долго и медленно её мучил — всегда внутри, чтобы на теле не оставалось следов, и она крутилась на кафельном полу, сжимая в искривлённом от боли рту изгрызенный кусочек мягкого дерева. Старик расстёгивал брюки, и Ома, слепая от боли, одной рукой возбуждала его, пока старик не сгибался от оргазма. Затем она обтирала его и себя приготовленным мокрым полотенцем. Старик садился отдыхать на кровать и смотрел, как она моет его окровавленные железки в белом эмалированном тазике.
Он всегда платил за любовь чуть больше, чем другие мужчины.
Кассовский нанял для Алисы няню, большую синюю негритянку, но она скоро ушла, не выдержав муки с больным ребёнком. Летиция нашла другую женщину, но и та продержалась лишь две недели.
Летиция теперь проводила с Алисой все дни; она растолстела, но продолжала оставаться красивой. Она никогда не говорила с Кассовским про Ому, словно той никогда и не было.
Летиция не верила в болезнь Алисы. Она считала, что доктора ничего не понимают, что Алиса просто странный ребёнок и с возрастом всё пройдёт. Удивительно, но ей Алиса позволяла брать себя на руки и сажать на колени. Она охотно ходила к да Кошта, где у неё теперь была своя комната, с точно таким же набором игрушек, как дома. Летиция купила ей такую же маленькую кроватку и четыре одинаковых платья.
Алиса обычно ночевала у да Кошта несколько дней в неделю. Здесь ей разрешалось всё: её не заставляли причёсываться, умываться, и она целыми днями бегала голая по их большому тёмному дому, заглядывая во все комнаты в одной и той же последовательности, снова и снова, снова и снова.
Часто Алиса приходила к Патти на кухню и начинала выкладывать из ящиков ложки и вилки прямо на каменный пол. Ей никто не мешал, и она составляла странные фигуры — ложки отдельно, вилки отдельно. Фигуры всегда были одни и те же, и Летиция запрещала Патти их убирать, пока Алиса не теряла интерес и на середине, не докончив выкладывать очередную фигуру, убегала из кухни. Ножи прятали от неё наверх, в большой дубовый комод, который запирался на ключ.
— Летиция считала, что Алиса гениальный ребёнок. — Кассовский сидел рядом с лампой, круг света — жёлтым пятном на стене за его головой. — У Алисы была совершенная музыкальная память: она могла прослушать двухчасовую симфонию и потом пропеть её, ни разу не ошибившись. Летиция заводила выписанный из Майами проигрыватель, они садились с Алисой на пол и слушали музыку, а потом Алиса воспроизводила всё по памяти. Летиция даже наняла ей учителя, но Алиса стала кричать и вырываться, когда тот попробовал усадить её за пианино. Учитель был уволен, но каждое утро, когда Алиса ночевала у да Кошта, Летиция открывала чёрную крышку инструмента и оставляла его открытым весь день, надеясь, что Алиса сама подойдёт и начнёт играть. Та не обращала на пианино внимания. Она хотела слушать пластинку, всегда одну и ту же. Это был Шуберт, Неоконченная симфония си минор.
Неожиданно доктор Алонсо встал и, чуть заметно кивнув Кассовскому, направился к двери. Воздух вокруг него был другим, более плотным, словно Алонсо был окружён защитным полем от рассказа Кассовского и всего лишнего, что он не хотел в себя впускать.
Алонсо вышел. Дилли не сводила с Кассовского взгляда, как если бы понимала его английскую речь. Её тень вдоль стены была много длиннее, чем она сама.
— Алиса уходила в себя всё больше и больше, — продолжал Кассовский. — Когда она ночевала у меня, между нами не было контакта: она не встречалась со мной взглядом, не реагировала, когда я звал её по имени, не брала протянутую ей игрушку. Она часами сидела на полу, неумытая, непричёсанная, и повторяла одну и ту же фразу. Иногда она пела Шуберта, всю Неоконченную симфонию с начала до конца.