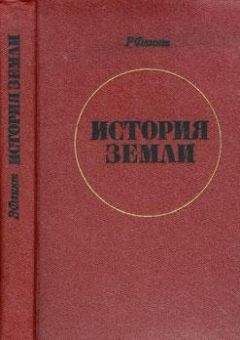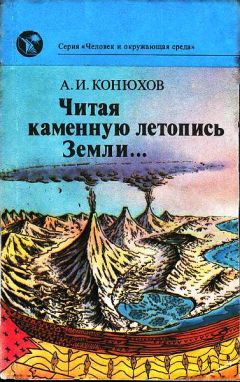Олег Радзинский - Суринам
В Парамарибо тогда жило много евреев; они жили в стране веками, и большинство из них смешались со старыми креольскими семьями.
Меня быстро заметили: все знали всех, и слух о молодом белом еврее из Нью-Йорка облетел город мгновенно. Меня стали всюду приглашать и скоро предложили работу.
Я снял маленький, плохо покрашенный дом на Стоелманстраат, недалеко от кладбища Свалмберг. Там было тихо и, казалось, никого никогда не хоронили. Казалось, в городе никто никогда не умирал.
По воскресеньям я любил гулять по кладбищу и читать надписи на могилах. Я придумывал умершим новые жизни и проживал эти жизни вместе с ними. Мёртвые были моей семьёй, моими любовницами, моими врагами.
Я не искал общества живых и лишь изредка ходил в маленький публичный дом на углу Буренстраат. Его держала китаянка из Джакарты с двумя дочерьми. Дочери были от разных отцов и мало похожи друг на друга. Их мать, Йинг, была красивее своих дочерей и готовила вкусные китайские супы.
Иногда я приходил к ней вечерами после работы, и она кормила меня на маленькой кухне.
Она учила меня есть палочками и смеялась по-китайски, когда я всё ронял. Мы подолгу сидели у неё на кухне и слушали звуки платной любви её дочерей за стеной. Когда клиенты уходили, дочери приходили к нам поесть. Они тоже учили меня есть палочками и разным другим вещам.
Мой хозяин, ещё не старый сефардский еврей Соломон да Кошта, нанял меня из-за английского языка. Мало кто торговал с Америкой в те дни: Голландия была по-прежнему основным рынком, но Соломон понимал, что Голландия потеряет все привилегии в тот момент, когда потеряет Суринам. В том, что это случится, и в будущей независимости страны он не сомневался ни секунды. Голландия была далеко, Америка близко. Он хотел наладить торговлю с Америкой и быть первым. Поэтому Соломон да Кошта установил у себя в офисе телефон.
Целыми днями я сидел у этого телефона и звонил в разные американские компании, предлагая лес, боксит и рыбу. Ничего этого у нас не было — Соломон владел баржами и занимался речными перевозками. Но он знал, где в Суринаме всё это можно купить, знал цены, и у него был собственный транспорт. У Соломона да Кошта было шесть пальцев на левой руке, и один глаз видел во все стороны сразу.
Соломон оказался прав: скоро мы стали получать заказы, в основном на лес и боксит. Соломон удвоил мне зарплату и подолгу сидел рядом, пока я беседовал с Америкой по телефону.
Я был его единственной ниточкой, протянувшейся от Парамарибо к огромной северной стране, которая соглашалась платить три цены плюс транспортные расходы. Его внутренний бизнес быстро отошёл на второй план. Скоро баржи да Кошта стали работать только на перевозки наших американских заказов до Ниеюв Никери и Ниеюв Амстердам. Оттуда товар грузили на большие корабли, и они уходили на север, где были Нью-Йорк и Боро-Парк.
Получив заказ, Кассовский должен был составить контракт на двух языках, один для клиентов, другой для да Кошта. Он много работал, целыми днями, оставаясь в офисе по вечерам.
В синагогу он больше не ходил, наслаждаясь свободой от бога и его слова, Торы. Соломон и сам не был религиозен, но всегда постился на Йом Кипур.
Религиозной была его жена, Летиция, красивая высокая креолка, которая радостно перешла в иудаизм при замужестве. Она прошла гиюр у хромого раввина в португальской синагоге на Гравенстраат и считала себя еврейкой. Летиция зажигала свечи на Шаббат и часто заходила в офис, чтобы спросить у Кассовского, как нужно исполнять тот или иной обряд.
Иногда Кассовский приходил к ним домой на субботнюю трапезу, но обычно он предпочитал супы китаянки Йинг. Секс с ней и её дочерьми был лёгким, радостным и лишённым всякого эмоционального подтекста. Секс с ними был как еда — удовлетворить потребность и получить удовольствие. И как еда, он не опустошал, а питал.
— Дочери были не похожи друг на друга. — Кассовский зажёг свет в ожидании доктора и его жены, которые, как он объяснил, были в госпитале — длинной розоватой постройке чуть дальше в лес, куда унесли больного индейского мальчика. — Йинг родила их от разных мужчин. Мне нравилась старшая, Махсури. Её отец был малаец, и она родилась на грузовом корабле недалеко от Африки, когда Йинг плыла из Индонезии в Суринам. Махсури была похожа на мать — с таким же мягким азиатским лицом, но более тёмной кожей. Она много смеялась и во время любви никогда не закрывала глаза.
Йинг выглядела моложе своих дочерей. Каждое утро она натирала своё тело жгучей травой киласи, чтобы убить старую кожу, и втыкала себе в голову и ступни длинные тонкие иглы из серой стали. Потом Йинг выливала на себя масло горного ореха и сидела в пустой ванне, единственной на весь дом, ожидая, когда высохнет её молодое тело. Ванна была выкрашена в красный цвет, и Йинг становилась похожей на мокрого китайского дикобраза в пустой красной ванне. Часто я сидел на краю ванны и наблюдал всю процедуру, с начала до конца. Я смотрел на неё и учился ничего не стесняться.
Кассовский замолчал. Дилли снова пронеслась сквозь комнату, крикнув что-то весёлое на голландском. Словно ворвался радостный, шумный сквозняк.
— Махсури никогда не ходила в школу, но умела читать и писать. Её научил один клиент, пожилой негр, который работал на складе в порту.
Он приносил с собой букварь своей уже выросшей дочери и учил Махсури буквам. Йинг не брала с него денег. Он приходил дважды в неделю и перед уходом всегда оставлял Махсури домашние задания. Она звала его «А-Бэ-Цэ». Махсури нравилось, что во время секса — после урока — он не снимал очки.
Младшая дочь, наполовину креолка, которую Йинг родила уже в Суринаме, мне нравилась меньше. В ней азиатская лёгкость матери и сестры была обожжена недобрым суринамским солнцем. Она казалась тяжелее — и внешне и внутренне; не угрюмой, но менее радостной. Она ходила в школу — ей только исполнилось четырнадцать. Когда я оставался с ней спать, я видел, как утром она надевала школьную форму и гладко зачёсывала волосы назад. У неё были белые гольфы, с синей полоской на боку. Она стирала их каждый вечер, чтобы надеть утром, и гольфы сохли на железной спинке кровати, покачиваясь в такт нашей любви. Она была более страстной, чем Йинг и Махсури, и часто просила, чтобы я сделал ей больно. Я не умел, и она учила меня, как это с ней делать.
Я тоже не очень ей нравился. Но в те ночи, когда её мать и сестра были с другими мужчинами, а она свободна, я оставался с ней.
Однажды утром я проснулся в её постели от голосов по-китайски. Я лежал и слушал, как женщины спорят. Мне было пора вставать на работу, и я пошёл в ванную.
Йинг, голая, с торчащими из головы иглами, скользкая от орехового масла, сидела в пустой красной ванне и говорила с младшей дочерью. Та стояла перед ней — в форме, с сумкой в руках, готовая идти в школу. Они увидели меня и умолкли. Затем Йинг сказала что-то резкое, как надтреснутый колокольчик. Ома повернулась и вышла, не сказав ни слова.
— Ома? — переспросил Илья. — Это была наша Ома?
Кассовский кивнул. Дилли больше не пела, и в ночном воздухе было слышно, как за оконной сеткой звенят москиты.
— Это была наша Ома. Йинг объяснила мне, что Ома беременна, и беременна от меня. В те дни мало кто предохранялся, и в ванной у Йинг на белом крючке висела большая синяя грелка с длинным резиновым узким шлангом, на который был надет катетер. На полу в углу стояла стеклянная банка с раствором марганцовки. После секса женщины шли в ванную и промывали себя, чтобы не забеременеть и не заболеть. Они знали, в какие дни не могут забеременеть, а в какие вероятность велика. Ома была ещё маленькой, не такой опытной, а может быть, просто один раз поленилась пойти и засунуть в себя катетер на синем шланге.
Или я наконец сделал ей так хорошо, что она лежала и сохраняла в себе то ощущение, когда женщина чувствует себя одновременно и наполненной, и звонко пустой. Не знаю. Она мне так никогда и не сказала. Но она забеременела и поняла это лишь тогда, когда было поздно делать аборт. Она боялась говорить матери, пока уже нельзя было скрывать.
Она спала с другими мужчинами тоже, с разными каждый день, но я не сомневался, что ребёнок мой. Я поверил сразу: ей не было смысла врать.
В тот день я первый раз за много лет вспомнил Хану, свою жену. Я почти никогда не вспоминал о ней и своей тусклой жизни в Боро-Парк. Я думал о Хане и представлял — если бы у нас был ребёнок. В мыслях Хана казалась мне намного красивее.
Днём я ушёл с работы, сказав Соломону, что мне нужно к доктору. Он обеспокоился и хотел куда-то звонить, но я отговорился и ушёл.
Я пошёл к школе, где училась Ома, и ждал, пока закончатся уроки. Она вышла, в толпе других девочек, такая же, как они, все в белых гольфах до смуглых коленок. Никто не знал о её тайной жизни и тайной жизни внутри неё. Мне казалось, она не заметила меня, и я пошёл за ней по жаркой дневной улице. На углу Ома остановилась подождать, пока я её догоню. Она ничего не сказала и просто пошла рядом.