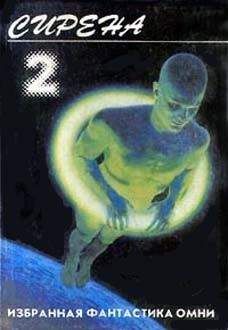Роберт Криз - Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки

Обзор книги Роберт Криз - Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки
Всему поразительному и неожиданному посвящается
Вступление
Я не помню, когда впервые услышал, как ученые называют эксперимент «красивым», но очень хорошо помню, когда впервые понял, что они имеют в виду.
Однажды, много лет назад, я сидел в сумрачном кабинете в здании физического факультета Гарвардского университета в окружении вороха книг и бумаг. Напротив меня расположился Шелдон Глэшоу, энергичный физик; его лицо, включая и очки с толстенными стеклами, было скрыто за таинственной пеленой сигарного дыма.
– Это был очень красивый эксперимент, – говорил он. – Прекрасный эксперимент!
Что-то в манере, с которой Шелдон произнес приведенную фразу, в особом ударении, которое он поставил на словах «красивый» и «прекрасный», свидетельствовало о неслучайном выборе слов. В его понимании эксперимент, который он описывал, действительно являлся в самом буквальном смысле воплощением красоты.
Глэшоу – весьма эрудированный и культурный человек. Подобно многим ученым-естественникам, он знает о гуманитарных науках и искусствах значительно больше, чем гуманитариям известно о его специальности – физике высоких энергий. Более того, он не какой-то рядовой физик, а выдающийся ученый: за несколько лет до того, как состоялся наш разговор, в 1979 году, он был удостоен Нобелевской премии по физике. В тот момент, сидя у Глэшоу в кабинете, я впервые задумался над тем, можно ли научный эксперимент в прямом смысле слова воспринять как красивый и назвать его таковым – точно так же, как мы называем красивым пейзаж, человека или картину.
Мне захотелось больше узнать об эксперименте, который Глэшоу – по привычке к научной краткости – именовал экспериментом с «нейтральными токами SLAC ». Оказалось, что это было довольно сложное предприятие, потребовавшее усилий многих ученых, инженеров и технологов на протяжении нескольких лет. Планирование и подготовка заняли почти десять лет, и эксперимент был проведен весной 1978 года на ускорителе элементарных частиц в две мили длиной в Стэнфордском центре линейного ускорителя (SLAC), расположенном к югу от Сан-Франциско в горах Санта-Клара. Эксперимент заключался в создании поляризованных электронов – электронов со спином, ориентированном в одном направлении, – и прогоне их через ускоритель со скоростью, близкой к скорости света. Мишенью для электронов служила группа протонов и нейтронов. Нужно было отследить результат такого столкновения. Испытанию в ходе описываемого эксперимента подвергалась новая, достаточно всеобъемлющая теория строения материи и ее фундаментальных свойств – теория, одним из разработчиков которой был Глэшоу. Если теория верна, экспериментаторы должны были отметить небольшое различие в том, как электроны, поляризованные в разных направлениях, рикошетировали от протонных мишеней, что свидетельствовало бы о присутствии того, что ученые называли «нейтральными токами, нарушающими четность». Различие крайне незначительное – примерно одно на десять тысяч электронов. Подобное наблюдение требовало такой степени точности – а для убедительности эксперимента ученым предстояло отследить десять миллиардов электронов, – что многие считали: либо осуществить его невозможно, либо результаты будут лишены научной убедительности.
Но уже через несколько дней после начала эксперимента стало ясно, что ответ не будет ни двусмысленным, ни сомнительным и что амбициозная теория верна (Глэшоу и двое других ученых были удостоены Нобелевской премии как раз за вклад в ее создание). Идеально подготовленный и проведенный эксперимент сделал факт существования новой фундаментальной характеристики материи – «нейтральных токов, нарушающих четность» – настолько очевидным для любого специалиста в этой области физики, что даже те, кто непосредственно не принимал участия в проведении эксперимента, были им восхищены. Когда в 1978 году один из ученых в докладе в зале Стэнфордского центра в первый раз описывал организацию и результаты эксперимента коллегам, не участвовавшим в нем, то впервые за все время его профессиональной деятельности никто в аудитории не усомнился в результатах эксперимента (а ведь обычно, как известно, ученые склонны все оспаривать и ставить под сомнение). Более того, вообще не возникло ни одного вопроса. Присутствовавшие там вспоминают, что последовавшие за сообщением аплодисменты были более длительными, более восторженными и более искренними, чем обычно1.
Идея о красоте эксперимента заставила меня задаться вопросом – а что, в принципе, может считаться «красивым» экспериментом? А этот вопрос, в свою очередь, породил другие, которые выводили на оба полюса моей двойной профессии – философа и историка науки: что означает красота в контексте эксперимента? И как красота научного эксперимента может повлиять на саму концепцию прекрасного?
* * *Когда я заговариваю о красоте научного эксперимента с людьми, непричастными к естественным наукам, они часто воспринимают мои слова довольно скептически. Три фактора, по моему мнению, порождают этот скептицизм. Один из них социальный: когда ученые выступают перед публикой – рассказывают о своей работе или отвечают на вопросы журналистов, – они очень редко используют слово «красота». Сложившиеся социальные условности таковы, что от исследователя ожидают объективного взгляда на природу, а не каких-то личных субъективных мнений и точек зрения. Чтобы соответствовать упомянутому образу, ученые обычно представляют эксперимент как нечто абсолютно функциональное, как некие манипуляции с набором инструментов, почти автоматически выдающие верные данные.
Второй фактор – культурный. Здесь скептицизм обусловлен методом, которым преподаются естественные науки в средней школе. В школьных учебниках эксперименты представлены как часть плана урока, как инструмент, всего лишь помогающий школьникам лучше усвоить материал. Воспринимая эксперимент таким образом, школьник даже не задумывается о его красоте.
Третьим фактором является чисто философский предрассудок, что истинно прекрасное можно найти лишь в абстрактном. «Евклид узрел нагую Красоту», – писала поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, и действительно – прекрасное в науке, как правило, усматривают в гипотезах и теоретическом объяснении фактов. Такие абстракции, как уравнения, модели или другие теоретические построения, которым свойственны простота, стройность, ясность, глубина, вечность и тому подобные достоинства, мы скорее склонны отождествлять с красотой. Эксперименты, которые чаще всего связаны с не слишком эстетичной на первый взгляд возней с механизмами, оборудованием, химическими веществами и биологическими организмами, никто с этой точки зрения не оценивает.
Ученым-экспериментаторам хорошо известно, что лабораторные эксперименты за редким исключением представляют собой достаточно однообразное и утомительное занятие. Бо́льшая часть времени ученого уходит на выверку данных, планирование, подготовку, сглаживание шероховатостей, решение рутинных проблем, поиск денег и поддержки. Наука большей частью состоит в медленном, постепенном, микроскопическом приращении наших знаний и наших возможностей. Но время от времени происходит некое непредсказуемое, но совершенно неизбежное событие, которое кристаллизует накопленную до того информацию и изменяет наше представление об окружающем мире. Оно выводит нас из состояния недоумения и демонстрирует – непосредственно, не оставляя места ни для каких дальнейших сомнений – самое важное и существенное, порой кардинальным образом перестраивая наш взгляд на мир. Именно такие мгновения ученые и называют «прекрасными».
Слова «красивый» и «прекрасный» постоянно всплывают в научных дискуссиях, заметках, письмах, интервью и так далее. «Прекрасно! Конечно же, необходимо это опубликовать, это прекрасно!» – записал в своем лабораторном блокноте в 1912 году нобелевский лауреат физик Роберт Милликен, хотя слова «красивый» и «прекрасный» в его опубликованной впоследствии научной статье отсутствуют. Джеймс Уотсон, увидев в начале 1953 года ныне широко известную фотографию молекулы ДНК, сделанную Розалиндой Франклин, охарактеризовал ее как «очень красивую спираль», а в первом варианте своей знаменитой статьи об открытии ДНК, написанной совместно с Фрэнсисом Криком, упомянул об «очень красивой» работе Франклин и других ученых из Королевского колледжа в Кембридже. Однако по настоянию коллег эту фразу исключили из окончательного варианта статьи. В те мгновения, когда чувства берут верх над интеллектом, ученые охотно прилагают слова «красивый», «прекрасный» к результатам своей работы, к методам, инструментам, уравнениям, теориям и, самое главное, к важнейшему двигателю научного прогресса – экспериментам2.