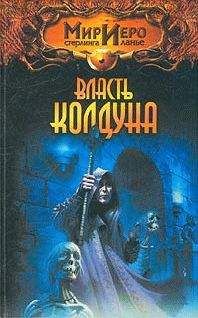Мартин Винклер - Женский хор
– Надеюсь… надеюсь, я написала не слишком много глупостей.
– Я прочел не все ваши ответы, но в тех двадцати, что прочел, не увидел ни одной глупости, напротив…
Я его почти не слышала, я его почти не слушала, мне очень хотелось высказать все, что поднялось к моему горлу и встало поперек.
– Это… оказалось гораздо сложнее, чем я думала…
Теперь он промычал: «Мммм…»
– Понимаю. Есть очень трудные сообщения. Или странные.
– Они все какие-то… отчаянные. На консультации все иначе.
– Верно. На консультацию приходят те женщины, которые могут прийти. У которых есть машина, или автобус, или кто-то, кто может их подвезти. И которых не мучает страх. Но ведь многие живут у черта на куличках, и если у них есть доступ к форуму, они пишут или просят свою сестру, подругу, родственницу написать вместо них, потому что сами не решаются или никогда прежде не пользовались компьютером или не могут разобраться с сайтом и чувствуют себя тупыми и беспомощными перед штуковиной, которой их дети ловко пользуются с тех пор, как научились сидеть. Наверняка некоторые сообщения написали десятилетние девочки по просьбе мамы или женщины гораздо более старшего возраста. Разумеется, мы видим лишь сообщения тех, у кого есть доступ к компьютеру.
– А что делают те, у кого нет ни доступа, ни возможности сходить к врачу? Звонят на линию экстренной помощи?
– Иногда. Но многие боятся, что их узнают, даже если они назовут вымышленное имя. Некоторые звонят женщинам-ведущим на радио, таким как Брижит Лаэ (кстати, на мой взгляд, из всех ведущих она дает самые лучшие советы), или рассказывают об этом другим женщинам. Подруге, двоюродной сестре, соседке. Которые порой знают не больше, чем они, но пытаются достать информацию. Или дают информацию, которой располагают: достоверную или ложную. Или пробуждают в них чувство вины. Бедная моя девочка, что же ты натворила? Почему же ты раньше мне об этом не рассказала?
Я почувствовала, как во мне поднялся ужас, как сжался живот и ручей крови ударился о стены бездонной пещеры, которая у меня там, внизу. Мне захотелось закричать, и я с трудом произнесла:
– Я не смогла (я привыкла думать, что я – суперженщина, а я всего лишь несчастная девчонка, жалкая балда, неспособная, незнающая, маленькое ничтожество, как нас все время называли преподаватели, когда мы приходили к ним, маленькое ничтожество, ни на что неспособное, которому, возможно, удастся вбить что-нибудь в голову, если у нее хватит ума прогнуться под нами, когда мы залезем к ней туда, или ходить за нами по пятам, потому что это единственное средство продвинуться далеко. Идти по пятам за Великим, за Королем, Мэтром, и позволить ему увести тебя туда, куда он хочет. Возможно, тогда у тебя появится шанс, что он тебя не завалит на свой соломенный тюфяк, а впустит в свою святая святых, и там, в глубине его шкафа, возможно, у тебя появится возможность – в тот момент, когда он откроет дверь и наклонится к своим ботинкам за три тысячи, – храбро искупаться в его свете) ответить на все вопросы.
– Конечно, ты не смогла ответить на все вопросы. Ты же не Господь Бог. И это неважно. Самое главное – ты не считаешь себя Господом Богом. Я видел, что ты сделала, и я потрясен. Ты ответила на все вопросы, на которые мои товарищи и я никак не могли ответить. На все письма, которые пришли после пятисот других таких же писем. Те, на которые всегда лень отвечать, потому что ответа на них нет. Это вопросы женщин, которые ни о чем не спрашивают, но которым просто не с кем поделиться своей тревогой. А ты на них ответила.
– Там были непонятные вопросы…
– Да. На них никто не даст вразумительного ответа. Но ты сделала самое главное! Ты показала им, что ты их прочла, что отнеслась к их сообщению серьезно. Они получили от тебя ответ человеческий, а не автоматический, который бы отправила машина. Ты показала им, что, даже если написанное ими не совсем понятно, есть кто-то, кто готов их выслушать.
Теперь мой ужас превратился в гнев.
– Иногда у меня было ощущение, что они рассказывают сказки. Или что-то не договаривают. Персонаж из телесериала, врач-мизантроп…
– Хаус…
– Да, Хаус. В нескольких сериях, которые я видела, он только и делал что говорил «Все лгут», и это жутко меня бесило. Теперь я начинаю думать, что он прав!
– Мне понятны твои чувства, но я думаю, что он – вернее, сценаристы – имели в виду не «все лгут, чтобы одурачить врачей», а «все лгут, потому что не все легко сказать». Все лгут, чтобы что-то защитить. Чтобы защитить себя от чего-то.
– Все?
Зачем я задала этот вопрос?
– Конечно. Это не обязательно ужасная, опасная тайна, ведь иногда обыкновенный стыд мешает нам выйти на люди. Часто секреты разочаровывают тех, кому становятся известны, настолько они заурядны, настолько типичны. Но для людей, которые их хранят, это тяжкое бремя. Страх раскрыть секрет настолько велик, что они извращают реальность, чтобы не привлекать внимания. Чтобы скрыть правду, они рассказывают разные истории. Они не знают, что история, которую они рассказывают, не только хорошо скрывает правду, но и четко обрисовывает ее контуры.
Из его слов я не поняла ничего. Я знала, что в них есть смысл, только никак не могла его разглядеть. Как у людей, у которых из-за удара в лоб повредился обонятельный нерв, – и теперь земляника пахнет просто водой. Они помнят, что у нее был аромат, но теперь его нет, и они с нетерпением ждут, когда он вернется, им не терпится съесть землянику, но вот появляется вкус воды, а ее текстура губки…
– А ты, – сказал Карма, – ты это чувствуешь.
– Чувствую что?
– Контуры их истории. Силуэт, который вырисовывается. Каждый раз, отвечая, ты говоришь им, что видишь, что чувствуешь их рассказ. Когда они прочтут твои сообщения, у них по-прежнему не будет ответа на их вопрос, зато появится ощущение, что для тебя они существуют.
– Я ответила, – сказала я, готовая расплакаться (я чувствовала, как во мне родилось ощущение беспомощности, которое охватило меня перед лицом этого потока жалоб и несчастий, всех этих сообщений, сетований, вагона, груженного жалобами, как будто я стояла позади грузовика с гравием, и вдруг кузов начал опускаться, гравий посыпался на меня, и я оказалась закопанной, погребенной, раздавленной. Как я могла ответить на все эти сообщения и не потонуть, не испугаться, не поддаться отвращению, отторжению, иронии, сарказму желанию все бросить или обругать их, встряхнуть и крикнуть им что есть силы, заглавными буквами, до какой степени я считаю их слабыми, трусливыми, вялыми и глупыми, глупыми, глупыми, настолько глупыми, что они напоминают мне мою собственную глупость. Но я не хотела сдаваться, не хотела, позволить себя провести, не хотела, чтобы меня все это поглотило, это как перед начальниками – ты всегда можешь меня раздавить, если хочешь, только у тебя не получится, я выживу я не буду торопиться, буду двигаться вперед миллиметр за миллиметром и вырасту и выберусь из этой дыры из этого шкафа, в котором ты хочешь меня запереть, и пойду к свету который мне нравится, а не к тому которым ты светишь мне в лицо, чтобы заставить меня повиноваться, утверждая, что этот свет единственный. Я пойду к свету который хочу найти, сантиметр за сантиметром, к концу туннеля, который вырыла сама, одна, а ты не видел и не знал, начиная со вчерашнего дня я больше не одна: они были там, со мной, под гравием, и когда я расчистила его, чтобы увидеть свет, то сделала это и для них). Я ответила, как смогла.
– Не просто «как смогла», ты ответила лучше, чем это сделал бы я.
– Почему? – сказала я, желая его задеть. – Потому что я женщина?
– Нет, потому что ты менее закомплексованная. Более гибкая, лучше приспосабливаешься. Более открытая.
– Но вы говорили, что я форматированная.
– Да. Потому ты и гибкая, что тебя форматировали. Да, ты приспособилась к тому, что от тебя требовали, ты вписалась в форму. Но ты там не затвердела. Ты способна приспособиться и к чему-то другому, даже если твое тело и противится. Ты демонстрировала это постоянно с тех пор, как появилась здесь. Ты борешься с желанием лечить женщин, но ты их слушаешь. Приняв позу врача, ты размахиваешь внушенными тебе догмами, как оружием, потому что они тебя защищают. Но сегодня ночью, оставшись один на один с этими сообщениями, ты оборонялась гораздо меньше, чем в первые дни. Ты не была высокомерна, ты их не презирала, не подсмеивалась над ними, не относилась к ним свысока, когда они говорили непонятные вещи. Тебе уже не так страшно. Ты знаешь, на сколько писем ты ответила?
– Нет.
– Восемьдесят пять.
Проклятие, неудивительно, что я ни жива ни мертва…
– Вы сейчас в больнице?
– Да.
– У вас дежурство?
– Мммм… И да, и нет. По воскресеньям я иногда прихожу в семьдесят седьмое отделение. Если вдруг какой-нибудь женщине вздумается сюда приехать, дверь будет открыта. И я могу побыть некоторое время с Катрин и Жерменой в маленьком отделении. У медсестры, которая ими занимается, очень много работы. А что?


![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](/uploads/posts/books/16630/16630.jpg)