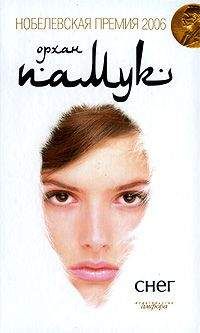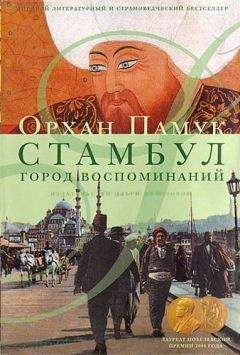Орхан Памук - Снег
– Папочка, по-моему, вам опасно идти в отель «Азия».
– Не беспокойся, – сказал Тургут-бей.
– Это же вы уже много лет говорите, что выход на улицы Карса приносит несчастье.
– Да, но если я туда не пойду, то из принципа, а не из-за того, что боюсь, – сказал Тургут-бей. Он повернулся к Ка. – Вопрос вот в чем: я, как коммунист, сторонник модернизации, светский человек, демократ и патриот, должен прежде всего верить в просвещение или в волю народа? Если я до конца верю в просвещение и европеизацию, то должен поддерживать военный переворот, совершенный против сторонников религиозных порядков. А если воля народа прежде всего и я уже стал демократом «чистой воды», тогда я должен пойти и подписать это заявление. А вы во что верите?
– Примите сторону угнетенных, пойдите и подпишите обращение, – сказал Ка.
– Мало быть угнетенным, нужно быть еще и правым. Большинство угнетенных не правы в мелочах. Во что будем верить?
– Он ни во что не верит, – сказала Ипек.
– Каждый во что-нибудь верит, – ответил Тургут-бей. – Расскажите, пожалуйста, что вы думаете.
Ка попытался объяснить, что если Тургут-бей подпишется под обращением, то в Карсе станет немного больше демократии. Сейчас он с беспокойством чувствовал, как велика вероятность того, что Ипек не захочет поехать с ним во Франкфурт, и, хладнокровно убеждая Тургут-бея, боялся, что тот все-таки не выйдет из отеля. Он ощутил головокружительное чувство свободы, которое позволяло ему говорить о том, во что он верит, и не верить в то, что говорит. Бормоча всем известные аргументы в пользу воззвания, демократии, прав человека, он увидел в глазах Ипек блеск, говоривший о том, что она совершенно не верит тому, что он говорит. Но этот блеск не был осуждающим и обличительным, как раз наоборот: он был полон сексуальности и искушения. «Я знаю, ты всю эту ложь говоришь из-за того, что хочешь меня», – говорил этот блеск. Таким образом, сразу после того, как Ка решил, что мелодраматическая чувствительность важна, он понял, что открыл для себя еще одну важную истину, которую никогда в жизни не мог понять: мужчин, которые не верят ни во что, кроме любви, некоторые женщины находят очень привлекательными… В возбуждении от этого нового знания он долго говорил о правах человека, о свободе мысли, о демократии и на другие подобные темы. Пока он повторял слова о правах человека, которые слегка глуповатые из-за чрезмерно добрых намерений европейские интеллигенты и те, кто подражал им в Турции, опошлили постоянным повторением, он пристально смотрел в глаза Ипек, думая о том, что сможет заняться с ней любовью.
– Вы правы, – сказал Тургут-бей, когда реклама закончилась. – Куда запропастилась Кадифе?
Во время фильма Тургут-бей был неспокоен, ему и хотелось пойти в отель «Азия», и было страшно. Пока он смотрел «Марианну», он обстоятельно рассказывал о политике времен своей молодости, о страхе попасть в тюрьму, об ответственности человека и печали старика, затерявшегося среди своих воспоминаний и фантазий. Ка понял, что Ипек и сердится на него за то, что он вовлекает ее отца в это беспокойство и страх, и в восторге оттого, что он его убеждает. Он не обратил внимания на то, что она прячет глаза, и не расстроился, когда она, уже в конце фильма, обняла Тургут-бея и сказала:
– Не ходите, если не хочется, вы достаточно пострадали из-за других.
Ка увидел тень на лице Ипек, но тут ему в голову пришло новое, счастливое стихотворение, которое он много позже, возможно с издевкой, назовет «Я буду счастливым». Тихонько сев на стул рядом с кухонной дверью, на котором только что сидела Захиде-ханым и, проливая слезы, смотрела «Марианну», он радостно записал его.
Пока Ка дописывал, в комнату быстро, не заметив его, вошла Кадифе. Тургут-бей вскочил с места, обнял и поцеловал ее, спросив, где она была и почему у нее такие холодные руки. Из его глаз капнула слезинка. Кадифе сказала, что ходила к Ханде, не успела уйти вовремя и, так как не хотела пропускать «Марианну», до конца посмотрела ее там.
– Ну, как наша девочка? – спросил Тургут-бей (он имел в виду Марианну), но, не слушая ответа Кадифе, перешел на другую тему, которая сейчас беспокоила все его существо, и быстро пересказал то, о чем говорил Ка.
Кадифе не только сделала вид, что впервые слышит об этом, но и, заметив в другом конце комнаты Ка, сделала вид, что очень удивлена, увидев его здесь.
– Я очень рада, что вижу вас, – сказала она, пытаясь закрыть платком голову, но, не надевая платка, села перед телевизором и стала давать советы отцу.
Изумление Кадифе было так убедительно, что, когда потом она взялась убеждать своего отца подписать обращение и пойти на собрание, Ка подумал, что она умудряется лицемерить и перед своим отцом. Это подозрение могло оказаться правильным, раз уж Ладживерт захотел, чтобы обращение стало достойным публикации за границей, но по страху, появившемуся на лице Ипек, Ка понял, что существует еще и другая причина.
– Я тоже пойду с вами в отель «Азия», папочка, – сказала Кадифе.
– Я вовсе не хочу, чтобы ты из-за меня попала в беду, – сказал Тургут-бей тоном, позаимствованным из сериала, который они смотрели вместе, и из романов, которые они когда-то вместе читали.
– Папочка, может быть, вмешавшись в это дело, вы без нужды подвергнете себя опасности, – сказала Ипек.
Когда Ипек говорила с отцом, Ка почувствовал, что она о чем-то говорит и ему, что на самом деле говорит двусмысленно, как и все в комнате, и, когда она иногда отводит взгляд или смотрит пристально, это должно усилить скрытый смысл. Гораздо позднее он заметит, что все, кого он встретил в Карсе, кроме Неджипа, с инстинктивным единодушием говорили двусмысленности, и спросил себя, не связано ли это с бедностью, со страхами, одиночеством или с простотой и однообразием жизни. Когда Ипек говорила: «Папочка, не ходите», Ка чувствовал, что она провоцирует его, и видел, что, когда Кадифе говорит об обращении и своей привязанности к отцу, она на самом деле проявляет свою привязанность к Ладживерту.
Таким образом, он предпринял то, что позже назовет «самым глубоким двусмысленным разговором в своей жизни». Он явственно ощутил, что если сейчас не сможет убедить Тургут-бея выйти из отеля, то никогда не сможет остаться наедине с Ипек – это он прочитал и по бросающим вызов глазам Ипек, – и решил, что это последняя возможность в его жизни стать счастливым. Когда он заговорил, то сразу осознал, что именно те слова и мысли, которые были необходимы для того, чтобы убедить Тургут-бея, привели его к выводу о том, что его жизнь прошла впустую. А это разбудило в нем желание как-нибудь отомстить левым политическим идеалам своей молодости, которые он сейчас забывал, даже не замечая этого. Когда он, чтобы убедить Тургут-бея выйти из отеля, говорил о том, что необходимо сделать что-то для других, о чувстве ответственности за невзгоды и бедность страны, о своей решимости стать цивилизованным человеком и о неясном чувстве сплоченности, он неожиданно ощутил, что говорит искренне. Он вспомнил энтузиазм своей молодости, связанный с левыми политическими взглядами, свою решимость не стать, как другие, заурядным и скверным турецким обывателем, свою тоску по жизни среди книг и размышлений. Так, волнуясь, словно двадцатилетний, он повторил Тургут-бею свои убеждения, так огорчавшие его мать, которая справедливо была против того, чтобы ее сын стал поэтом, и которые, уничтожив всю его жизнь, в конце концов сделали его эмигрантом, живущим в крысиной норе во Франкфурте. С другой стороны, он чувствовал, что сила в его словах говорила Ипек: «С такой силой я хочу заняться с тобой любовью». Он чувствовал, что это левацкое пустословие, ради которого он погубил всю свою жизнь, в конце концов поможет делу и благодаря этим словам он сможет уединиться с Ипек – и как раз тогда, когда он уже абсолютно потерял в них веру, когда считал самым большим счастьем в жизни писать стихи в каком-нибудь углу, обнимая красивую и умную девушку.
Тургут-бей сказал, что пойдет в отель «Азия» прямо сейчас. Вместе с Кадифе он удалился в свою комнату приготовиться и переодеться.
Ка подошел к Ипек, которая все еще сидела в углу, где она только что вместе с отцом смотрела телевизор, даже позы не поменяла, словно все еще прислонялась к нему.
– Я буду ждать тебя в своем номере, – прошептал Ка.
– Ты меня любишь? – спросила Ипек.
– Очень люблю.
– Это правда?
– Да, правда.
Какое-то время они сидели молча. Ка, следуя за взглядом Ипек, смотрел из окна на улицу. Снег пошел снова. Уличный фонарь перед отелем вспыхнул, и, хотя он и освещал огромные снежинки, выглядел он так, будто горит понапрасну, поскольку еще до конца не стемнело.
– Поднимайся к себе. Когда они уйдут, я приду, – сказала Ипек.
28
О том, что отделяет любовь от боли ожидания
Но Ипек пришла не сразу. Это стало одной из самых больших пыток в жизни Ка. Он вспомнил, что боялся влюбляться из-за этой разрушительной боли, которую приносит ожидание. Едва поднявшись к себе, он сначала бросился на постель, сразу встал, привел себя в порядок, вымыл руки, почувствовал, что от рук и губ отхлынула кровь, дрожащими руками пригладил волосы, затем, посмотрев на свое отражение в зеркале, опять растрепал их руками и, увидев, что все это заняло мало времени, со страхом начал смотреть из окна на улицу.