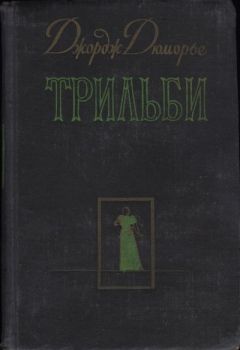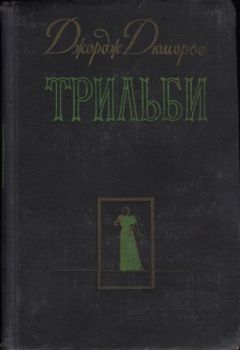Дафна Дюморье - Берега. Роман о семействе Дюморье
Я сейчас разучиваю очень сложную пьесу – „Молитва Моисея в Египте“ Тальберга. Очень красивая вещь. Разучиваю и еще одну, на пятидесяти листах. Успокой тетю Луизу, когда будешь ей писать: у папы не было никакой холеры. Он просто отравился рыбой. А то мы получили от нее письмо, и она очень волнуется.
Папа в любом случае уже поправился, весел, как всегда, и поговаривает о том, чтобы съездить к тете Луизе в Париж».
В начале весны 1856 года Луи-Матюрен действительно поехал в Париж, однако, как оказалось, по весьма неприятному поводу – занять денег. За пятьдесят восемь лет безалаберной жизни ему довелось испытать почти все мыслимые финансовые затруднения, однако до сих пор дело ни разу не заканчивалось судебным разбирательством. Сделки 1846 года, связанные с переносной лампой, были более чем сомнительными, однако ему удалось тогда по большому счету выйти сухим из воды. На сей раз он вляпался куда серьезнее, не выскочишь. Что именно произошло и какова была его вина, теперь уже не восстановишь. Судя по всему, то же самое удобрение было уже запатентовано кем-то другим, и до этого кого-то дошли сведения, что несчастный Луи-Матюрен претендует на право первенства. Его великодушный покровитель полковник Гревиль то ли продал свою долю в изобретении, то ли как-то договорился с изобретателем, – во всяком случае, в тяжбе он не участвовал. Как друг и щедрый человек, он наверняка ссужал Луи-Матюрену деньги на покрытие судебных издержек, возможно, помогал и советами, но сам, судя по всему, ничего не потерял.
Попытки выпросить денег у зятя, Джорджа, ни к чему не привели: Джорджина была дамой экстравагантной, а кроме того, совершенно не умела экономить на домашнем хозяйстве – в итоге честный капитан и сам оказался обременен долгами: милфордские торговцы постоянно предъявляли ему счета, которые она забыла оплатить, слугам задерживали жалованье, не говоря уж о счетах от лондонских портных и галантерейщиков.
Те давние восемьдесят фунтов Луи-Матюрен так и не вернул; для Джорджа это была весомая потеря. Со свойственной ему дотошностью и порядочностью он следил за тем, чтобы сестре регулярно выплачивали дивиденды, – после смерти матери он был назначен опекуном над ее состоянием, – себе же ни разу не взял из этих денег ни пенни. В свое время, после судебного разбирательства 1809 года, герцог Йоркский обеспечил его – этих денег вполне хватало для холостяка со скромными привычками, однако не для жены с ребенком, которые привыкли к роскоши; кроме того, времена с начала века переменились, в 1809 году на фунт можно было позволить себе куда больше, чем в 1856-м.
Джордж написал сестре и зятю доброжелательное, честное письмо, объяснив, что в нынешних обстоятельствах не в состоянии оказать им никакой финансовой помощи.
Луи-Матюрен не пал духом; он отправился во Францию, в Версаль, к Луизе. Уж она-то сделает для него что угодно. Это он знал. И не ошибся. Она отдала ему все свои свободные деньги, урезав собственные расходы до самого необходимого, и, несмотря на сильные боли – ревматизм фактически сделал ее калекой, – сопровождала брата в по ходы по парижским ростовщикам, у которых он собирал необходимую сумму.
Она даже решилась написать своему старому другу, герцогу Палмелла, с которым не виделась и не обменивалась письмами уже довольно давно: изложила все обстоятельства и, разумеется, не забыла упомянуть имя его крестника. Напоминание о счастливом прошлом, о каком-то незначительном эпизоде, связанном с его женой Эжени и рождением в Брюсселе маленького Джиги, видимо, произвело желаемое действие, ибо герцог ответил весьма благожелательным посланием, к которому приложил небольшую сумму. Луиза пошла продавать старинное, очень красивое кольцо, которое некогда принадлежало ее матери, и между прочим гадала, не удастся ли заработать на ее дав нем увлечении: она рисовала цветы, причем очень талантливо; ни словом не обмолвившись об этом Луи, она отнесла несколько своих картин одному версальскому тор говцу, и, к ее удивлению и радости, он тут же все их купил.
Деньги Луиза тотчас передала брату, не упомянув про голые стены в своей монастырской келье, с которых она сняла картины, а только пробормотав что-то про доход с одного вложения, о котором она совсем забыла.
Луи-Матюрен вернулся в Лондон в твердой уверенности, что выиграет процесс; впрочем, эта тяжба, как и все другие, затянулась на всю зиму и всю весну, и дело разрешилось не раньше, чем Луи-Матюрен полностью утратил и энтузиазм, и оптимизм.
В марте и апреле 1856 года его терпение, да и мужество начали постепенно истаивать. Бодрость и непобедимая жизнерадостность, которые всегда были его неизменными свойствами в любых, даже самых тягостных обстоятельствах, оставили его со странной, тревожной внезапностью; Эллен, Кики и Изабелла с душевной болью следили, как он никнет и чахнет, точно несчастная птичка со сломанным крылом, что не может больше ни летать, ни петь; совершенно потерянный, он бесцельно бродил по дому.
Голубые глаза подернулись дымкой тревоги, лицо побледнело, истончилось. Луи-Матюрен, никогда раньше не ведавший гнева, сделался ворчливым и раздражительным. Луи-Матюрен, который всегда выглядел таким молодым, беспечным и счастливым, как бы решительно ни отворачивалась от него фортуна, внезапно состарился и душой, и телом.
Мир вокруг него почернел, а он не мог понять отчего. Элен следила за мужем со внутренней мукой и не переставая думала про его брата Роберта и про приступы черной меланхолии, которые стали у того прологом к безумию. Роберт вот так же днями и часами сидел без движения, глядя перед собой точно мертвец, не произнося ни слова; она помнила, как однажды, в тот лондонский год, сразу после рождения Изабеллы, они с Луи зашли к Роберту и обнаружили, что он сидит, уронив голову в ладони, и разговаривает сам с собой. Луи тогда пошутил по этому поводу, но Эллен навсегда запомнила тот визит – так потряс ее вид цветущего мужчины, который шепчет и бормочет себе под нос, а когда Роберт поднял голову, в глазах его стоял ужас.
Вчера она застала Луи-Матюрена почти в том же виде – он сидел в углу гостиной, скорчившись у камелька, и в глазах у него стояла тень, которой она никогда раньше там не видела.
Ему нездоровилось всю зиму, она об этом знала. Погода стояла необычайно холодная, у Луи часто случались приступы астмы, которые он зимой переносил особенно тяжело, а сильные морозы мешали окончательному выздоровлению. Однако раньше и астму, и простуды он переносил без жалоб, ему даже нравилось лечиться своими странными смесями. В этом же году он даже перестал ездить в лабораторию. «Je suis si fatigué, – жаловался он, – si fatigué…»[58] – и только качал головой без тени улыбки, когда Кики приносил рисунок или карикатуру, которые в былые времена непременно бы его развеселили.
Даже Изабелла и ее пианино вынуждены были примолкнуть – Луи-Матюрена выводило из себя бойкое журчание музыки.
Эллен научилась сдерживать свои чувства. Чтобы муж хоть что-то поел, она наливала ему тарелку супа, стараясь, чтобы он как можно больше походил на soupe à la bonne femme из Парижа, она не ворчала, не суетилась, никого не бранила – и все из-за этой тени в его глазах, которая постоянно напоминала ей про Роберта, несчастного его покойного брата, который лишился рассудка еще до того, как лишился жизни.
Лучшей сиделкой показал себя Кики. Он умел мягко, ласково обращаться с больными – сама Эллен никогда этими качествами не обладала. Кики был бесконечно терпелив – матери его это удавалось не всегда. Слишком легко она раздражалась. Ей случалось утомиться до полусмерти и мучиться нестерпимой головной болью, однако она почти никогда не жаловалась и не щадила себя. Возможно, домочадцам ее было бы легче, если бы она позволила себе слабость. Но нет. В постели валяются одни бездельники; болезнь для них – удобный предлог, чтобы пренебречь своим долгом. Немощные – обуза для общества. Каждый обязан делать над собой усилие. При таком образе мыслей она мало чем могла поддержать своего несчастного Луи, бывшего весельчака, который теперь сидел сгорбившись в углу у камелька, – и хотя вид мужа причинял Эллен постоянные муки и беспокойство, ей не всегда удавалось скрыть свое раздражение.
Так что сидел с отцом Кики, читал отцу Кики; Кики же придумывал забавные истории, пытаясь развеселить того, кто сам разучился веселиться. В середине апреля было обнародовано решение суда – Луи-Матюрен проиграл дело. Этот приговор похоронил их последние надежды.
Продали лабораторию вместе с дорогим оборудованием. Изабелле пришлось оставить учебу в колледже. Две верхние комнаты в доме 44 по Уортон-стрит были сданы внаем. Семейство существовало на скудный доход Эллен, долги все росли. Джордж Кларк пригласил Изабеллу погостить в Милфорд – целый месяц одним ртом меньше. Кики так и сидел без работы, и было непохоже, что он ее найдет, особенно после продажи лаборатории.