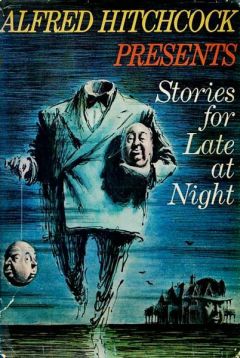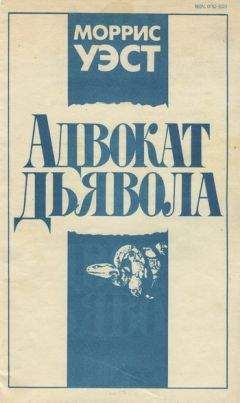Нина Георге - Лавандовая комната
Несколько раз я даже обижалась на тебя за то, что ты позволял себя обманывать. Несколько раз меня охватывала злость – от одной лишь мысли, что ты мне вообще повстречался. До ненависти дело, правда, никогда не доходило.
Жан, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, будить ли тебя и умолять помочь мне. Я не знаю, вырвать ли эти страницы или оставить. Или скопировать их и послать тебе по почте. Потом. Или никогда. Я пишу, чтобы легче было думать.
Для всего остального мой язык уже не годится.
Сейчас я говорю с тобой больше своим телом. Этим усталым, больным южным деревом, из которого с трудом пробивается последний зеленый нежный росток. Оно может, по крайней мере, выражать примитивнейшие желания.
Люби меня.
Держи меня.
Ласкай меня.
Агоническое цветение, как говорил папа. Прежде чем умереть, растения еще раз расцветают. Закачивают все свои соки в последний побег.
Ты мне недавно сказал, что я очень красива.
Это начало агонического цветения.
Недавно ночью позвонил Виджайя из Нью-Йорка. Ты был еще на «Лулу» и продавал последнее издание «Огней». Тебе хочется, чтобы все прочли эту замечательную маленькую странную книгу. Ты мне как-то сказал, что в этой книге нет ни слова лжи, нет ничего выдуманного или приукрашенного. Что в ней каждое слово – правда.
У Виджайи новое начальство, два странных цитолога. Они считают, что не мозг, а тело определяет душу и характер. Они говорят: это другие миллиарды клеток. И то, что происходит с ними, происходит с душой.
Боли, например, сказал он, pain for example, меняют полярность клеток. Это начинается уже через три дня. Клетки-возбудители превращаются в болевые клетки. Чувственные клетки – в клетки страха. Координационные клетки – в мотки колючей проволоки. В конце концов каждая ласка оборачивается физической мукой, каждое дуновение ветра, каждая музыкальная нота, каждая приближающаяся тень – источником страха. Боль жадно питается каждым движением в каждой мышце и рождает миллионы новых болевых рецепторов. Изнутри ты уже весь перестроен, реконструирован, а внешне выглядишь обычно, так что никто ничего не замечает.
Потом at last[63] наступает такой момент, когда ты уже не желаешь никаких прикосновений. Никогда. Наступает одиночество.
Боль – это рак души, сказал твой старый друг. Он сказал это так, как говорят ученые, он не думает о тошноте, которую вызывают подобные фразы у неученых. Он предсказал мне все, что должно со мной случиться.
Боль оглупляет тело и голову, сказал твой Виджайя. Ты все забываешь, твое мышление определяет уже не логика, а паника. Все твои мысли, все твои надежды падают в ров, выкопанный в мозгу болью. В конце концов ты и сам падаешь в него, все твое «я», поглощенное этими pain and panic[64].
Когда я умру?
Статистика говорит: чуть раньше, чуть позже, но неизбежно.
Я еще собиралась попробовать «тринадцать десертов»[65] на Рождество. Мама – большой специалист по части печенья и мусса, папа займется фруктами, а Люк отполирует самые красивые орехи. Три скатерти, три подсвечника, три преломленных куска хлеба. Один для живых за столом, один на счастье и один – для бедных и умерших.
Боюсь, что я к тому времени буду уже делить эту символическую трапезу с нищими.
Люк умолял меня согласиться на курс химиотерапии.
Если даже отвлечься от того, что шансов – как на ипподроме, все равно так или иначе часть меня умрет, все равно рано или поздно надо будет заказывать памятник, траурную мессу, гладить носовые платки.
Интересно, буду ли я чувствовать могильную плиту?
Папа меня понимает. Когда я сказала ему, почему отказалась от химиотерапии, он ушел в сарай и долго плакал. Я бы не удивилась, если бы он отрубил себе руку.
Мама словно окаменела. Она стала похожа на засохшее оливковое дерево. Ее подбородок стал бугристым и жестким, глаза чем-то напоминают древесную кору. Она спрашивает себя, что она сделала не так, почему не сумела трансформировать первое предчувствие страшной беды в дурной сон, в материнскую любовь, которая часто тревожится там, где нет даже повода для тревоги.
«Я знала, что в этом проклятом Париже ждет смерть!» Но она не решается упрекнуть меня в упрямстве. Она во всем винит только себя. Эта строгость помогает ей продолжать жить и обставлять мою последнюю комнату так, как я ее просила.
Ты лежишь на спине, в позе танцора, выполняющего пируэт. Одна нога вытянута, другая поджата к животу. Одна рука над головой, другая как бы упирается в бок.
Ты всегда смотрел на меня как на какое-то уникальное создание. Пять лет подряд. Я ни разу не разозлилась на тебя, ни разу не прочла в твоем взгляде равнодушия. Как тебе это удалось?
Кастор не сводит с меня глаз. Наверное, мы, двуногие, кажемся кошкам в высшей степени странными существами.
Вечность, которая ждет меня, уже давит мне на плечи страшным грузом.
Иногда – но это злая, гадкая мысль! – мне хотелось, чтобы кто-то, кого я люблю, ушел бы первым. Чтобы я знала, что мне это тоже по плечу.
Иногда я думала, что первым должен уйти ты, чтобы я тоже смогла сделать это. Зная, что ты ждешь меня там…
Прощай, Жан Эгаре.
Завидую тебе, завидую каждому году, что тебе еще предстоит прожить.
Я уйду в свою последнюю комнату, а оттуда – в сад. Да, так и будет. Я пройду через высокую светлую дверь на террасу и – прямо в закат. И… и превращусь в свет, а значит, буду везде, всюду.
Это будет МОЯ природа, я всегда буду здесь, каждый вечер.
34
Они провели вместе восхитительный вечер. Сальво подавал все новые и новые порции ракушек, Макс играл на пианино, Жан и Кунео по очереди танцевали с Сами на палубе.
Потом они все вместе любовались видом на Авиньон и мост Сен-Бенезе, увековеченный в знаменитой французской народной песенке. Июль жарко, страстно дышал им в лицо. Даже после захода солнца термометр показывал двадцать восемь градусов.
Около полуночи Жан поднял свой бокал.
– Спасибо вам! – сказал он. – За дружбу. За искренность. И за этот потрясающий ужин.
Они подняли бокалы и чокнулись, и этот звон показался им прощальным ударом колокола, возвестившим конец их совместного путешествия.
– Теперь я наконец счастлива! – сказала тем не менее Сами с пылающими щеками и повторила через полчаса: – Я все еще счастлива! – и через два часа…
Впрочем, она, вероятно, говорила это еще и еще, и необязательно словами, а, возможно, как-то иначе, но ни Макс, ни Жан этого уже не слышали. Они решили не смущать Сами и Сальво в первую из тысяч и тысяч предстоящих им ночей и, оставив влюбленных на «Лулу», отправились через ближайшие городские ворота в старый город.
В узких улочках теснились толпы гуляющих. Зной южного лета естественным образом сместил границу дня далеко за полночь. Макс и Жан ели мороженое на площади перед роскошной ратушей и смотрели на уличных артистов, которые жонглировали факелами, исполняли акробатические танцы и смешили публику в кафе и бистро комическими трюками. Жану Авиньон не понравился. Он напоминал ему потасканную уличную шлюху, отчаянно пытающуюся угодить привередливым клиентам.
Макс увлеченно уплетал мороженое.
– Я буду писать детские книжки, – небрежно промычал он с полным ртом. – Есть у меня парочка идей…
Жан покосился на него.
«Да, вот оно, начало пути, который приведет Макса к себе самому», – подумал он.
– Могу я узнать, что это за идеи? – спросил он через некоторое время, оправившись от удивления и восторга, что дождался заветного момента.
– А я уж думал, что ты так и не спросишь.
Макс достал из заднего кармана брюк свою записную книжку и прочел:
– «Старый волшебник ждет, когда наконец придет отважная девочка и выкопает его из ямы в саду, где его забыли под кустом земляники сто лет назад». – Он посмотрел на Эгаре просветленным взглядом. – Или история о маленьком святом Бимбаме.
– Бимбаме?
– Ну, это такой святой, которому приходится заниматься всем, чем гнушаются остальные. Я думаю, что даже у Бимбама было детство, прежде чем он услышал: «Кем ты хочешь стать?.. Писателем?! О, святая простота!» – Макс ухмыльнулся. – Потом еще история о Клер и ее кошке Мурке, которые поменялись телами. Или, например…
«Будущий герой всех детских комнат», – думал Жан, слушая удивительные замыслы Макса.
– …или как маленький Бруно прилетел на небо и стал жаловаться в соответствующие органы на семью, в которую его определили…
Жан чувствовал, как в груди его распускаются цветы нежности. Как он полюбил этого юношу! Его причуды, его смех.