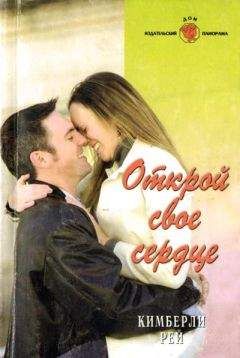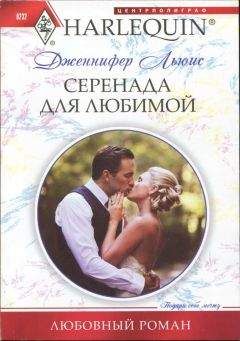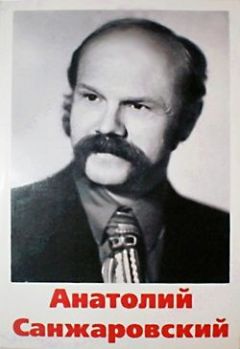Дэвид Духовны - Брыки F*cking Дент
– Помню те дни.
– В основном все названия – индейские: Излип, Вантаг, Мэссэпиква, Манхэссет. И конечно, загадочный и манящий Бабилон. Иногда поезд ехал так медленно, чуть ли не три мили в час, и мне казалось, что можно спрыгнуть и целым-невредимым идти себе дальше куда-нибудь. И я думал про вас с мамой, что вот сидите вы в вагоне и ничего не знаете, а я меж тем сойду с поезда в новый город и стану новым человеком. Загляну в какой-нибудь пригородный домик и скажу: «Привет, я Тед, можно к вам в сыновья? Если хотите, зовите меня не Тедом, а как вам нравится». Стану новым. Они дадут мне новую одежду, у меня будут новые мама с папой, а вы и не узнаете, куда я девался, пока не доберетесь до города, но тогда будет уже слишком поздно – вы меня не найдете.
– Не очень-то приятно слушать такое на сон грядущий – как ты хотел себе новых родителей.
– Дело не в этом, пап. Я так и не ушел. Верно? Так и не спрыгнул с поезда. Остался с вами, навсегда.
– Это правда.
Они полежали молча, готовясь заснуть.
– А знаешь, Тед, мне этого достаточно. Что ты не ушел. Ничего большего человек от своего сына хотеть не может.
– И ты не ушел от меня, пап.
– Нет, не ушел, похоже.
– Этого тоже достаточно.
Марти включил свет:
– Не хочу я спать, Тед.
– Ясно. А что хочешь делать?
– Нарываться на приключения.
71
Они вернулись к машине. Просто покатились по округе без всякой цели. Тед спросил:
– Может, поискать приключений на карте? Потому что я не знаю, куда еду.
Краткие всплески разговоров перемежались долгим легким молчанием. Ближе к закату они взялись искать другой мотель. Теперь уж они оказались недалеко от Бостона, но вокруг все еще было сельским и буколическим. Остановились в красивом месте – посмотреть на заход. Марти сказал:
– Не знаешь, до чего оно все красивое, пока не соберешься уходить. Неправда это – видел один закат, значит, видел их все. Точнее было бы сказать: видел один закат – хочешь увидеть все.
Тед кивнул – и по-прежнему насущной, хоть и затасканной истине, и выводу из нее.
– Что случилось с Марианой? – спросил Марти.
– Ничего. По-моему, она просто спит с кучей народу.
– Вот молодец. Секс – это отлично. Лучше всего. Вот умру, мне его будет не хватать.
– Видимо, да.
– Хочешь совет?
– Не очень.
– Нищие не привередничают.
– Учел.
– Какая разница, что она там делает? Она тебе нравится?
– Да.
– Ну и какая разница, что она там делает? Я умираю, приятель, думаешь, мне есть дело до того, что твоя мать кувыркалась с твоим дядей Тимом?
– Мама кувыркалась с дядей Крошкой Тимом?
– Да при чем тут. Вся эта человеческая херня отваливается, как мясо с кости, и остается одна любовь. Помню лишь одно: я любил твою маму и скучаю по ней. И Марию я тоже люблю. Поверь, когда соберешься помирать, тебе насрать будет, кого там ебала Мариана. Будешь просто благодарен, что она ебала и тебя в том числе, баран.
Они вписались в «Мотоприют Пола Ревира» и приготовились ко сну. Тед прикурил косяк – вот тебе и бросил, называется. Марти тоже приобщился.
– Я прямо чувствую, как порчу себе будущее, – сказал он.
В темноте виднелся лишь огонек на конце косяка, передаваемого с кровати на кровать. Тед сделал чрезмерно борзую затяжку и раскашлялся. Марти взбесился на ровном месте:
– Сраный кашель! Бесит меня этот твой сраный кашель!
Теда чуть не сбросило с кровати.
– Господи, пап, это еще что такое?
Марти перевел дух и взял себя в руки. На мгновение. А затем заплакал:
– О боже, о боже, о боже…
– Что такое?
– Кажется, я кое-что понял.
– Что?
– Кашляни.
– Что?
– Кашляни.
Тед кашлянул.
– Да, черт бы драл, я так бешусь из-за твоего кашля.
– Ты сердишься на меня, потому что я кашляю? А не потому что подаю мяч, как девчонка, и смазливее, чем ты?
– Когда тебе было девять месяцев, ты заболел, первая простуда, – и ты не смазливее меня, кстати, – и мы с твоей матерью все откладывали везти тебя в больницу. Мы не знали. Что мы вообще знали? Приехали туда с тобой, а врачи глядят на нас как на дураков, что мы затянули. А мы не знали.
– Не помню такого.
– Конечно. Тебе и года не было. Они взяли у тебя пункцию. Воткнули здоровенную иглу тебе в крохотную спинку, и я врачей этих за то, что они делают тебе больно, поубивать хотел, а потом и себя тоже. Они не знали, что с тобой. За три дня тебе стало хуже.
Тед лежал во тьме такой густой, что мог представлять рассказываемое отцом, как кино.
– Врачи не могли взять в толк. Мы остались с тобой в больнице – мы с матерью. На третью ночь твоя мама заснула, а я склонился к тебе, прямо к твоему прелестному личику, и заговорил с той хворью – или вирусом, или бесом, – что крушил тебе легкие, двусторонняя пневмония там была, или респираторный вирус, или сам дьявол, неважно, я с ним заговорил и велел ему выйти вон из тебя и сразиться по-мужски, не в тебе, а во мне. Больше ничего не мог придумать. И понимал, что этого недостаточно. Знал, что бессилен и ты умрешь. И меня посетило видение.
– Какое?
– Видение, каков будет мир после того, как ты умрешь. Не будет в нем больше радости, станет он бездонным колодцем печали и боли, и я принялся погружаться в этот колодец, все глубже, и не было в нем дна. Я начал тонуть.
– Но я выжил, пап, – все в порядке, я выжил.
– Да, выжил, но вот ты сегодня кашлял, и я прямо в тех временах оказался – и понял, что испугался. Испугался той бездонной тьмы и боли. Не смог бы вновь это пережить – твою смерть, а любить тебя означало столкнуться с этим вновь – с возможностью той боли. И я так боялся потерять тебя, что не принял обратно. Похоже, я так до конца тебя и не принял. Испугался тебя любить.
– Господи, пап.
Тед не знал, что тут сказать, и потому не сказал ничего. И не прерванный Марти продолжил соединять темные точки – у себя в уме, в легких, в небесах. Тед вспомнил старые ребусы «соедини точки», еще из детского сада: кучу с виду случайно расставленных точек можно соединить в определенном порядке, и получится отчетливая картинка – обычно что-нибудь величественное, вроде созвездия. Тед чувствовал, что отец близок к разгадке – к темному величию его личных звездных небес.
– Всю свою жизнь я пытался видеть людей насквозь, дурил им головы, обращаясь к их бессознательному, а себя самого насквозь не видел никогда, никогда.
Теду пылко захотелось как-то все улучшить, встроить в контекст, простить, помочь Марти простить себя самого, но он помалкивал. Сразу следом за порывом все сгладить пряталась мудрость оставить все как есть и дать времени, которое от них стремительно уходило, по-своему вершить и уязвление, и исцеление. Тед подумал, что все мы на Земле подчинены времени и его законам – физическим и душевным, тут короткого пути нету. Время – геология. Полароидный снимок, которому на проявку у тебя в руках требуется пятьдесят лет.
Все, все шло к этому мгновению, так чего же торопиться мимо, пока оно принимает очертания, пока набирает цвет, пока закрепляется? Слова принижают, как клетки – диких зверей.
Через минуты тишины, пока Тед слушал, как отец плачет в темноте, Марти задышал спокойнее, утишил и утешил себя. Тед тоже плакал, и его плач мешался с отцовым, но все же оплакивал Тед не себя, а отца, и эта чистая инстинктивная щедрость пропитала сладостью горечь обоих.
Наконец Марти заговорил:
– Вот почему мы с Марианой поладили.
Тед сглотнул и перевел дыхание. Хотел, чтобы голос у него не стискивало большим чувством.
– В смысле, с Марией.
– Нет, с Марианой. У нее дочка умерла. От рака. У Марианы татуировка на щиколотке. Христина. Ее дочку звали Христина.
– Не Христос – Христина.
– Да, Христина. Она поняла, почему я тебя боюсь: она сама видела тьму детской смерти, но только Мариана живет в этой тьме, каждый день ей приходится выходить из темноты на свет, где живые, и каждый вечер возвращаться во тьму, где теперь ее дочь. Это она предложила, чтобы я опять стал писать.
Тед разглядывал образы, которые ум показывал ему впотьмах. Увидел своего молодого отца и себя-младенца; увидел юную Мариану, убитую ужасом, и ее умирающую дочь. Увидел бездонный колодец, но не смог к нему подобраться, не смог заглянуть в него: у Теда не было детей, он не ведал. Отец вновь заговорил – изможденно:
– Тед, прошу тебя, скажи, что ты меня не ненавидишь.
– О боже, нет, я не ненавижу тебя, пап.
– Я так устал.
– Поспи.
– Боюсь не проснуться.
– Ты еще не всё. Я не боюсь.
Тед встал, подошел к отцовой кровати и лег с ним. Подсунул руку отцу под шею, обнял его, Марти уложил голову Теду на грудь. Тед поцеловал Марти в макушку. Тот прошептал:
– Ты – мое секретное оружие.
Тедовы смутные воспоминания о детстве, неотличимые от желаний, об отце – тот вот так же укладывал сына спать в трудные ночи. Зарывался головой Марти в грудь, Марти гладил его по волосам. В полной темноте прикосновения ощущались острее, и сейчас Тед чувствовал, как его сердцебиение чуть качает голову Марти, убаюкивает его, утешает. Через минуту, не больше, по глубокому дыханию Марти сын понял, что отец уснул.