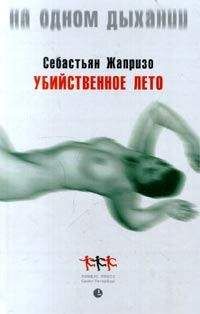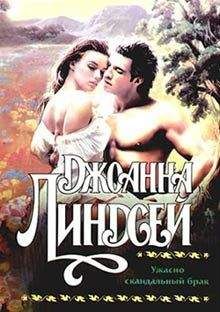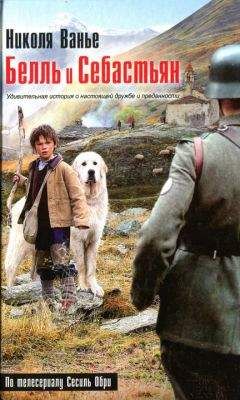Тарас Прохасько - НепрОстые (сборник)
«Галичина». В наших краях начались межнациональные конфликты, и таким образом дед Михась обеспечивал безопасность своей неукраинской семьи. Ему был сорок один год. После Бродов он пошел домой, но по дороге попал в руки мобилизационной комиссии, которая шла сразу за войсками и забирала галицких мужчин на фронт. На его правом плече была вытатуирована стрелка, которой в немецкой армии обозначали группу крови. Вместо действующей армии
деда назначили в штрафной строительный батальон и отправили на работы в Казахстан. До демобилизации в сорок шестом дед Михась добывал уголь в карьерах Коркинуголь. Тем временем Каролина с дочерью воспользовались возможностью выехать в Польшу. Вернувшись домой, дед скрывался. Когда же наведался в Делятин, его кто-то увидел и тут же сдал. Деда взяли как человека, бывшего на работах в Германии, и отправили в Читу. Он пытался
переписываться с Каролиной, но тайный цензор МВД Леопольд Авзегер, который вел его переписку, сделал так, что до жены дошло только первое письмо, в котором дед писал, что все хорошо. Все дальнейшие письма оставались у цензора, и дед только получал от Каролины отчаянные просьбы ответить, уверения, что его ждут, потом укоры, обвинения и прощание. Бабушку Зоню арестовали во время разработки спецоперации по ликвидации Роберта,
выдающегося руководителя УПА. Кто-то подумал, что Роберт может быть Робертом Прахазкой и на него можно выйти через жену. Бабушку даже освобождали фальшивые уповцы и прятали в фальшивом бункере, выспрашивая, как можно переправить ее к мужу. В Чите бабушка встретила деда Михася, и они еще тридцать лет успели пожить вместе в Делятине. Бабушка Зоня пережила деда Михася на тринадцать лет, а моего отца, своего сына, на три недели. Она умерла от
печали. С того времени прошло девять лет. Каждое лето мы с детьми живем в делятинском доме на горе. У нас бывают очень разные люди. Однажды целую неделю жили восемнадцать человек одновременно. В прошлом году треснула лучшая яблоня-ранета, посаженная в пятьдесят шестом. Рома Рось приезжал в ботинках, которые могут выдержать три тонны груза…
Как я перестал быть писателем
1.
Если бы моя учительница дзен оказалась права, все было бы совсем иначе. Было бы – как она говорила – здесь и сейчас. Она бы была возле меня. Мы бы приехали на поезде к дому на Горе. Мы бы зашли в дом и замкнули дверь изнутри на ключ, не помня, как мы доехали, дошли и что было перед этим. Мы бы немного натопили и выложили из сумки привезенную еду. Была бы зима. Было бы холодно. Были бы незнакомые звезды. Было бы темно. Еще холоднее – в постели. Печь нагреется разве что к утру, которого здесь не должно быть, потому что поезд отсюда еще затемно, до него еще шесть часов. За окнами черно – и нет уже ничего, кроме звуков. Звуки простые – далекие псы, ветер в кроне голого ореха, мерзнут земля, вода и камни, передвигаясь, тучи заслоняют всякий раз другие фрагменты одного и того же созвездия, скрипит вымороженная трава, расправляются деревянные конструкции заборов, стен, срубов и собачьих будок. Твердеют следы и сокращаются рельсы путей за садом, гвозди, забитые в доски, цепи в колодцах, которые должны достигать уровня подземных вод.
Не было бы ничего. Только светильник с разбитым абажуром над кроватью. Какие-то перины, подушки и покрывала. Коврик времен модерна от стены. Серебряные барельефы головы Христа в терновом венце и Леонардовой «Тайной вечери». «Святое семейство» Лоренцо Скьярпелони, репродукция двадцатых годов. Точнейшая копия чудотворного образа Матери Божьей Ченстоховской, принтед ин Поланд, 1936, в рамке с остатками золотой краски, под стеклом. Пейзаж Михайла Мороза – гора, много разных деревьев, весна, снег тает, пятна белые, синие, гранатовые, бурые, бронзовые и даже немного зеленого. Этюд Зория – Краков, Планты, какая-то башня, зеленый каштан. Паутина в углах. Раскладное кресло, кресло, которое раскладывается в кровать. Автопортрет Шевченко, вырезка из журнала, в паспарту и раме. Овальный большой стол посреди комнаты и четыре мягких стула со всех сторон стола. Голландская печь с охряными изразцами. Бывший выдвижной ящик возле дверцы печи, в нем – дрова. Белая дверь в другую комнату. Она замыкается и тонкой латунной ручкой, и щеколдой на правом верхнем углу. Два снимка, цветной – Папа Римский, чернобелый – бабушкина сестра сидит на лавке под яблоней. Еще один большой женский портрет пастелью. Шкаф с зеркалом посредине, зеркало слегка деформирует любое отражение. Диван, накрытый выцветшим и потертым бело-красно-желто-черно-зеленым домотканым одеялом. Окна, занавешенные белыми полотняными шторами. Четырехэтажная этажерка с книгами (Монтень, Украинский календарь, ботанические атласы, разные карты Карпат, многотомник Бальзака, украинско-немецкие словари, учебники садоводства, цветоводства, фотодела, греко-римской борьбы, помологии, фенологии, рукопашного боя, часового дела, «Кобзарь», история средневековой Церкви, Стефаник, записные книжки Чехова, Гамсун, Шклярский, Субтельный, «Доктор Фаустус», альбом чешской фотографии с 1960 года, самиздатовский том Бродского (напечатанный на машинке, 1970 год)). Пол из узких досок, очень давно крашенный красным. Стены лимонные. Потолок белый, но с большими трещинами, залатанными гипсом с синькой. Однако взгляд интенсивнее всего фиксируется на старинных часах (метр на двадцать пять), похожих на ратушу или часовню, ботинках «Доктор Мартинс» под тумбочкой и шестнадцати железных бильярдных шарах в двухрядной деревянной подставке на печи.
Мы бы нагревали собой одеяло, еще и дыша под него, покуда, нагретое нами, оно не начало бы удерживать тепло на нашей коже, на коже моей и ее. Из-за четких границ между нагретым и холодным нам было бы тесно. Если бы моя учительница дзен оказалась права… Она была бы со мной, и не было бы никакого везде и всегда, которые здесь и сейчас.
2.
Хотя эта пора осени особенно пригодна для такого вылавливания малейших сезонных изменений, что сделать их значительными событиями своей частной каждодневной жизни чрезвычайно просто, я все-таки пытаюсь не замечать многих деталей. Не потому, что осень навевает естественную грусть, не из-за нелюбви к зиме и совсем не потому, что этой осенью есть нечто поважнее. Это лишь детское стремление убежать от напоминания о чем-то тревожащем.
Я всегда ощущаю эту невнятную тревогу перед радикальной сменой образа жизни, которая, так мне кажется, неминуемо совершается дважды в год. Этот переворот состоит в замене открытого пространства на закрытое, тепла на холод, лавок на кровати, сандалий на ботинки, сочных плодов на сушеные, улиц на комнаты, салатов на картошку и квашеную капусту, белого вина на что-нибудь покрепче, круглосуточных экспедиций на короткие переходы, открытых окон на отопление и наоборот.
Каждый раз необходимо некоторое время, чтобы вспомнить, как теперь нужно будет жить. Нечто подобное происходит, когда рождается еще один ребенок, и кажется, что никогда не вспомнишь всего, чему смог научиться с предыдущим.
В моем случае эти ощущения усиливаются еще и балконом. Полгода он для нас, что называется, родной дом, экологическая ниша, собственная территория. Здесь, между стенами здания и зарослями винограда, протекает наша жизнь, сюда приходят все, кто нас посещает. Жизнь на балконе определяет незиму.
Уже несколько недель только на этом балконе происходит нечто такое, что заставляет меня ощущать дополнительную тревогу. Не связанную даже с тем, что, поскольку это составляющая балконной жизни, которая вскоре должна прерваться, это нечто, возможно, нестойкое и может скоро закончиться. Тревога эта как-то глубже.
На балконе М. учит чешский язык. Она его учит, поскольку умеет учить языки, поскольку не знает чешского, поскольку чешский ей нравится. Мне тоже нравится чешский. Когда выхожу на балкон, восхищаюсь долгими и краткими гласными, создающими неповторимую мелодику, скоплениями четырех согласных в слове из четырех звуков. Мне нравится эта детскость с попаданием в ударения, когда отвечаю на вопросы, вычитанные из учебника. Вспоминаются удивительные детские чешские книжечки начала семидесятых, неповторимая графика, которая тогда значила больше, чем диковинные стишки про то, что был у «дидечка колоточ, и зъев его червоточ». Всплывают переживания пражских рабочих пивных и винных, куда не заходят туристы. Пытаюсь представить, как эти предложения мог выговаривать мой обожаемый Грабал… Только приятное. Никаких оснований для тревоги.
Но я же по крови на четверть чех. И я до сих пор не знаю, почему не знаю чешского. Почему даже не пробовал его выучить. Не знаю, не есть ли моя полная украинскость в этом смысле тем отступлением, которое меня раздражает в украинцах. Не понимаю, почему по-детски убегал и убегаю.
То, что мой дед был моим дедом один год, что мой папа родился после того, как тот умер, и папа не слышал ни одного ласкового чешского слова, вовсе не означает, что он перестал быть и папой, и дедом. В конце концов, остался неоспоримый генотип и вполне узнаваемый фенотип. В конце концов, даже после своей смерти дед стал причастен украинским историям, потому что именно его некоторое время энкаведисты считали Робертом. В конце концов, с годами он кажется мне все более и более близким. И несмотря на все я, выходя на балкон, который скоро станет зимним, не пытаюсь запомнить ни одного урока из учебника чешского языка. Пытаюсь не думать о смене образа жизни и чувствую непонятную тревогу.