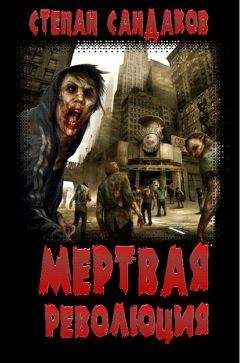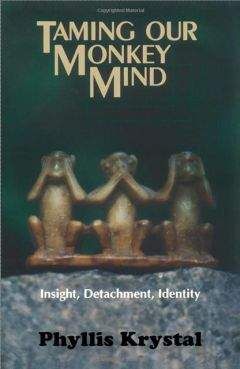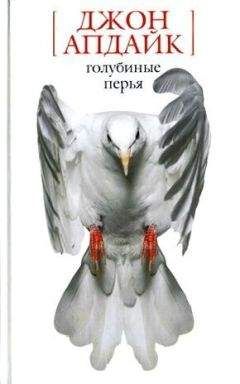Сол Беллоу - Равельштейн
– Он уходит!
Шимон оборвал ее:
– Поспокойней, пожалуйста.
Именно эту фразу он часто говорил жене или детям, когда те начинали ссориться. Не позволять ситуации выйти из-под контроля – таково было его главное предназначение в семье. Он не чувствовал, что его глаза закатились, но я видел такое не впервые и знал: сиделка права.
После похорон, прошедших на той же неделе, – незадолго до моего дня рождения, – я в ярости бросился в комнату Велы и стал пинать ногами дверь ее ванной. Затем вспомнил призыв Шимона к спокойствию – практически его последние слова – и осекся. Молча вышел из дома. Когда я вернулся, на столе лежала записка от Велы: она осталась ночевать у Елены, тоже балкано-француженки.
Наутро я ушел, а вечером обнаружил, что дом обклеен крупными разноцветными кругляшами – зелеными были помечены мои вещи, коралловыми – ее. Вся квартира пестрела этими огромными разноцветными точками. Цвета были ненормальные, ядовитые, какие-то желчные, хотя на упаковке из-под наклеек писали про «приятные пастельные оттенки». Мне показалось, я угодил в инопланетную снежную бурю – «метель meum-tuum»[17], как я сказал Равельштейну.
Команда его студентов помогала мне разбирать вещи после переезда на новую квартиру. Среди них была и Розамунда. Она сразу заинтересовалась моей библиотекой. В картонных коробках лежали собрания сочинений Вордсворта, Шекспира и «Улисс» «Шекспира и компании» с любопытными опечатками, сделанными парижскими наборщицами. Не «Польди, давай и мы. Ох, я так хочу, умираю», а «я так мочу, умираю», – говорит Молли, глядя на случку собак под окном. «Так начинается жизнь», – думает Леопольд Блум. В тот день они с Молли зачали сына, который недолго прожил. В какую сторону ни глянь, стены жизни плотно облицованы подобными фактами, и тебе никогда не принять во внимание их все, лишь самые заметные бросаются в глаза. Как, к примеру, выглядела Вела, когда наклеивала на вещи эти салатовые и оранжевые кругляши? От одного их вида хотелось выброситься из окна. Как же я мог связаться с женщиной, которая, уходя из моей жизни, обклеила дом сотнями, если не тысячами ярлыков? И, раз уж на то пошло, почему Молли вышла за Леопольда Блума? Ее ответ был: «Не все ли равно он или другой».
Я считал красоту Велу несравненной. Она носила узкие юбки, плотно облегающие кавалерийские ягодицы, и грудь у нее была бесподобная. Постук ее каблуков напоминал дробь военного барабана, но абсолютно ничего не говорил о ее чувствах или мыслях.
У Велы была неподвижная верхняя губа. Я всегда придавал особое диагностическое значение верхней губе. Если в человеке есть склонность к деспотизму, она явит себя именно здесь. Разглядывая фотографию человека, я часто выделяю черты его лица. О чем говорит такой лоб или расположение глаз? А эти усы? У Гитлера и Сталина, главных диктаторов нашего века, усы были совершенно разные. И у Гитлера, если подумать, была весьма примечательная верхняя губа. Любопытный факт: при поцелуе губа Велы ощутимо колола, точно осиное жало.
Она любила наставлять, показывать, каким должен быть мужчина. Эта особенность вообще свойственна многим женщинам. То ли она сравнивала меня с каким-то мужчиной из прошлого, то ли у нее в голове (подсознательно, разумеется) сложился мужской идеал – некий юнгианский двойник мужского пола, собственный анимус, врожденный образ правильного мужчины.
У Равельштейна не хватало терпения на подобные вещи.
– Все эти юнгианские штучки ей вдолбил не кто иной, как Раду Грилеску. Она давно дружбу водит с этой четой. Ты и сам раньше ужинал с ними по два раза в месяц. Конечно, ты писатель, тебе разные знакомства нужны и полезны, – сказал Равельштейн. – В твоем положении это естественно и понятно. Ты знакомишься со спортсменами, актерами, музыкантами, маклерами, бандитами… Это твой хлеб с маслом и мясо с картошкой.
– Тогда почему я не должен ужинать с Грилеску и его женой?
– Ужинай на здоровье, только смотри фактам в лицо.
– Каким фактам?
– Грилеску тобой пользуется. Раньше он был фашистом, а теперь ему надо, чтобы мир об этом забыл.
– Да ладно тебе…
– Он когда-нибудь отрицал свою принадлежность к Железной Гвардии?
– Речь об этом не заходила.
– То есть ты никогда ее не заводил. Напомнить тебе про кровавую бойню в Бухаресте, когда людей живьем подвешивали на крюки для мясных туш и свежевали?
Равельштейн редко заговаривал о таких вещах. Время от времени он высказывался об «Истории» в гегельянском духе и в качестве развлечения предлагал студентам почитать «Лекции по философии истории». Мрачные беседы о «жутких подробностях» ему претили.
– Разве ты не знал, что Грилеску – последователь Нае Ионеску, основателя Железной Гвардии? Неужели он никогда его не упоминал?
– Иногда он говорит об Ионеску, но чаще – про свою жизнь в Индии и про то, как он учился йоге у великого мастера.
– Вся эта его любовь к Востоку – сплошное притворство. Ты слишком хорошо относишься к людям, Чик, и не по наивности. Часто ты делаешь это сознательно. Прекрасно ведь понимаешь, что он – притвора. Вы заключили негласное соглашение… Мне говорить какое?
Как правило, мы с Равельштейном общались открыто и без обиняков. Verbum sat sapienti est [18]. Грилеску имели для Велы социальное значение. Есть у меня такой дар – все подмечать. Когда я щебетал по-французски с мадам Грилеску, Вела расплывалась в довольной улыбке. Но Равельштейну было не по душе, что я якшаюсь с этими людьми. На пороге смерти он почувствовал необходимость говорить более откровенно о тех вещах, которые считал нужным обсудить.
– Ты для них – удобное прикрытие, – сказал Равельштейн. – Иначе ты бы никогда не подружился с этими отъявленными антисемитами. Но ты оказался мужем Велы, ты протянул им руку – и они за нее ухватились. В тридцатые Грилеску был румынским националистом и готов был передушить всех евреев. Он не ариец, нет. Он – дак.
Все это я знал. Также мне было известно, что Грилеску водил близкое знакомство с Юнгом, считавшим себя неким арийским Мессией. Но как я должен был относиться к ученым людям с Балкан, у которых столь разнообразные интересы – к философам, историкам и поэтам, изучающим санскрит и тамильский, читающим лекции по мифологии в Сорбонне, – и которые, если поставить вопрос ребром, ответят, что были «шапочно знакомы» с членами военизированной Железной Гвардии?
Правда же заключается в том, что мне нравилось наблюдать за Грилеску. Рассказывая о чем-нибудь, он без конца возился с курительной трубкой: набивал ее, вытряхивал, вставлял в мундштук проволочный ершик или вычищал нагар из чаши. Грилеску был невысок и лыс, но отпускал волосы на загривке; те пышно кустились над воротником рубашки. Его череп был испещрен синими венами; казалось, его голова всегда терпит страшные перегрузки – зеленоватая лысая дыня Равельштейна выглядела совсем иначе. Дрожащими пальцами прокручивая в мундштуке ерш, похожий на волосатую гусеницу, Грилеску вещал что-нибудь эзотерическое. У него были косматые брови и широкое лицо, всегда готовое к обмену идеями. Однако обмена не происходило, потому что он полностью погружался в какую-нибудь мифологическую или историческую тему, о которой собеседнику было совершенно нечего сказать. Впрочем, я не возражал. Не люблю, когда на мне висит ответственность за поддержание разговора. Но у каждого человека есть что-то вроде лужайки случайных знаний, и очень приятно, когда кто-то поливает и подсеивает ее за тебя. Иногда Раду принимался рассказывать о сибирских шаманах, в другой раз – о брачных обычаях австралийских аборигенов. Предполагалось, что люди должны внимать. С расчетом на это мадам Грилеску обставила гостиную.
– Вот-вот, – сказал Равельштейн. – Именно так он уводил разговор подальше от своего фашистского прошлого. Однако остались свидетельства: например, его высказывания о еврейском сифилисе, поразившем высокоразвитое население Балкан.
Нацизм действительно был не чужд Грилеску, причем самый оголтелый нацизм, а не его подслащенная итальянская версия. Про мадам Грилеску ничего сказать не могу. Догадываюсь, что до войны она была великосветской львицей, модницей из высшего общества. Нетрудно представить, как она в шляпке-клош выходила из лимузина. Женщины, которые хорошо одевались и красили губы яркой помадой, редко имели твердые политические убеждения. Такие европейки больше следили за тем, как ведут себя в обществе их мужья. Последние существовали, чтобы придерживать им двери и подставлять стулья.
Мадам Грилеску всегда нездоровилось. Судя по морщинам, ей было уже за шестьдесят, и она очень страдала по этому поводу. Вместе с тем с мужчинами она бывала крайне строга – ходячий учебник по этикету. Невозможно догадаться, что она знала о железногвардейском прошлом своего мужа. В конце 30-х, когда немцы завоевали Францию, Польшу, Австрию и Чехословакию, Грилеску стал весьма заметной фигурой в лондонских научных кругах, а позже неплохо устроился в Лиссабоне при диктатуре Салазара.