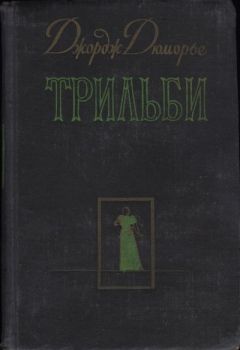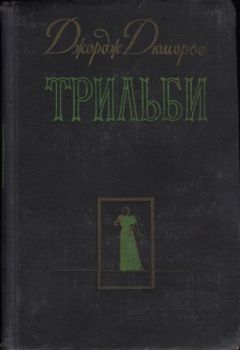Дафна Дюморье - Берега. Роман о семействе Дюморье
Остаюсь, мадам, Вашим преданным слугой,
Г. Элган, клерк Ист-Индской компании, БомбейИ всё. Ни единого слова в объяснение. Никаких упоминаний о болезни. Никакого рассказа, пусть и самого краткого, о том, как он жил в Индии, чем занимался, как зарабатывал на хлеб. Он там умер – и только. Более ничего. Она никогда не узнает, выпало ли ему страдать и сносить тяготы, раскаялся ли он за былые грехи и обратился ли к Богу. Ей теперь оставалось одно – служить мессы за упокой его души и молиться о том, что они еще встретятся в чистилище. Теперь ей до конца жизни носить вдовий траур. Она тихо заплакала, размышляя о страшной необратимости его кончины. До того в самой глубине ее сердца неизменно теплилась надежда, что он вернется, – разумеется, не такой, как прежде, возможно переменившийся к худшему, возможно – пьяница или калека, однако он в любом случае останется ее мужем, и они будут жить вместе.
Она любила воображать себе собственное великодушие – как она склоняется над его простертым телом, гладит, даруя покой измученному челу. Он во всем будет зависеть от нее… А теперь ей даже не утешиться посещениями его могилы; ей отказано в этих еженедельных паломничествах. Единственная кроха утешения виделась ей в словах незнакомца: «Последняя его просьба заключалась в том, чтобы я уведомил Вас о случившемся». Выходит, он ее не забыл. Он тянулся к ней до самого конца. Она попыталась припомнить, чем занималась в момент его смерти. Прошлый сентябрь. Точной даты ей не сообщили. Пятнадцатого в Лиссабоне был праздник, по улицам прошел большой парад из разукрашенных экипажей. Все размахивали флажками и кидали цветы под колеса. Она и сама ехала в экипаже в обществе джентльмена-португальца, разумеется чрезвычайно благовоспитанного, но сколь же это было ужасно и бессердечно с ее стороны, если именно в тот день и оборвалась жизнь Годфри. Сама эта мысль была ей невыносима. Она механически взяла и вскрыла второе письмо; знакомый почерк брата не вызвал в душе никакого отклика. Все мысли ее пребывали с несчастным покойным супругом.
«…так что мы порешили, что назовем его Джорджем, в честь брата Эллен, Луи в мою честь и Палмелла в знак уважения к твоей милой подруге и покровительнице». Да что же это, ради всего святого, такое? Она торопливо перечитала первые фразы письма брата: «Ты будешь рада услышать, ненаглядная моя Луиза, что вчера, шестого марта, Эллен родила сына. Она прекрасно перенесла это испытание, мальчик здоровенький и очень красивый. Я уже определил, что в будущем он посвятит себя науке. Надеюсь, он не обманет наших ожиданий. Мать Эллен специально приехала из Англии, чтобы быть в этот момент рядом с дочерью, и только и говорит что о своем новорожденном внуке, утверждая, что он – вылитый отец. Мы все втроем обсуждали его будущее и пришли к выводу, что этот длинный набор инициалов перед его именем крайне важен…»
Милая Эллен, милый Луи-Матюрен! Как она счастлива, что союз их благословен свыше и увенчался рождением ребенка; как это эгоистично с ее стороны – так отдаться собственному горю, что, прочитав половину письма, она так и не вникла в его содержание.
Джордж Луи Палмелла Бюссон-Дюморье – как это благородно звучит! Такое изумительное имя – само по себе неплохое начало жизни. Герцог наверняка будет тронут знаком внимания к его семье. Он и так проявляет великодушный интерес ко всему, что связано с ее родственниками – Бюссонами. Луиза утерла слезы, которые проливала по мужу, зажгла свечи на алтаре и встала на колени – помолиться за новорожденного племянника.
Младенец тем временем спал в колыбели в блаженном неведении относительно треволнений, вызванных его появлением на свет, и его по-прежнему окружала та славная дожизненная тьма, в которую все мы стремимся вернуться в моменты крайнего одиночества. Бюссоны занимали квартиру на первом этаже дома номер 80 на Елисейских Полях, неподалеку от бывшего жилища миссис Кларк; денег, которые Эллен получала от матери, и случайных заработков Луи-Матюрена хватало на то, чтобы жить если не в роскоши, то хотя бы в относительном удобстве.
Эллен вела хозяйство умело и экономно. Последнее оказалось особенно кстати, поскольку первые же несколько месяцев совместной жизни показали, что доверять Луи-Матюрену деньги на хранение – все равно что давать ребенку оружие. Судя по всему, представление о деньгах, которым многие наделены сполна, а другие – в некоторой степени, у него отсутствовало полностью.
Утром он уходил, как он выражался, «на работу» в свою лабораторию, довольный и веселый, распевая во весь голос, с пятьюдесятью примерно франками в кармане. В полдень он возвращался обедать, все в том же солнечном настроении, а вот пятидесяти франков уже не было.
– Дай мне немного из хозяйственных денег, любовь моя, – просил он жену, нежно ее целуя. – Я верну их тебе сразу же, как получу обратно долг от Дюпона, он такой забывчивый…
– Не следует давать в долг друзьям, – корила его Элен. – Это в принципе неправильно.
– Знаю, сердечко мое, но я просто не в силах отказать. Слишком уж я добросердечен; мне тяжело огорчать человека. А кроме того, когда мое изобретение наконец признают, нам не придется переживать из-за каждого долга. Нам хватит на то, чтобы обеспечить весь мир.
– Я не уверена, что горю желанием обеспечивать весь мир, – возражала Эллен.
– Вся беда в том, – со вздохом произносил ее супруг, – что я родился в состоятельной семье. Если бы Францию не сотрясла революция, а отец получил бы сполна за свою верность королю, мы бы жили в собственном замке, окруженном нашими землями, и слуг бы у нас было столько, сколько заблагорассудится. Ты бы целыми днями ничего не делала, только играла на арфе. Эх! Вот было бы замечательно. Крестьяне кланялись бы, когда мы проезжали бы мимо в карете, а я швырял бы им золотые. Как, Шарлотта, жалеешь ты, что я – не богатый барин?
Он откидывался на спинку стула, обращаясь к их единственной служанке, которая как раз подавала на стол. Она хихикала, опустив голову.
– Ах, месье, – бормотала она, перебирая пальцами фартук.
– А тебя я бы назначил домоправительницей, Шарлотта, – великодушно объявлял Луи. – И дал бы тебе право обезглавливать младших слуг за провинности.
Луи-Матюрен разделывал мясо на тарелке, как охотник разделывает дичь, и служаночка опять принималась хихикать. Луи-Матюрен обожал, когда его слушали. Эллен хмурилась, явно недовольная. Она не поощряла болтовни со слугами. Ничего нет хорошего в подобной фамильярности. Рано или поздно придется об этом пожалеть.
– Как твоя работа? – спрашивала она у Луи, чтобы сменить тему.
– Да никак, – отвечал он бодро. – С другой стороны, мне не привыкать. Вот будь сегодня иначе – тогда бы я удивился. Ну ничего, надеюсь, что через месяц-другой я дам тебе совсем иной ответ. Сегодня утром я познакомился с одним человеком – строго говоря, мы перекусили в кафе, – и у него, насколько я понял, есть дядя, а у того – чрезвычайно влиятельный друг, который наверняка проявит практический интерес к моему изобретению. Завтра я опять собираюсь встретиться с этим человеком, и мы обсудим все подробнее.
– Ты столько времени проводишь по утрам в этих кафе, – говорила Эллен. – Неудивительно, что тебе некогда работать.
– А вот тут ты как раз заблуждаешься, – увещевал он ее. – Именно в кафе, а не в кабинете и происходит вся основная работа. Это общеизвестно. Собственно говоря, я так доволен итогами нынешнего утра, что вторую половину не грех провести в праздности. Давай съездим в Сен-Клу.
– Но это же дорого, Луи-Матюрен, придется нанять экипаж.
– Пфф! Любовь моя, какие мелочи! Бюссоны не думают о таких низменных материях, как деньги. Старый папаша Жан, который стоит на углу, нас отвезет, а я расплачусь с ним в конце недели.
Она качала головой, не одобряя такой расточительности, но в душе прощала его, потому что он одаривал ее такой нежной улыбкой, а потом вел ее к фиакру так, будто она королева, а фиакр – раззолоченная карета. Впрочем, она втайне тревожилась из-за полнейшей безответственности мужа, ребяческой привычки перекладывать на завтра сегодняшние проблемы.
Когда родился их сын, она понадеялась, что отцовство немного остепенит Луи-Матюрена, заставит серьезнее отнестись к насущной необходимости зарабатывать деньги; но хотя новоиспеченный отец искренне восхищался сыном, ласкал его, целовал и даже несколько раз пел ему колыбельные, на его беспечность и недальновидность прибавление семейства никак не повлияло. Эллен даже самой себе не признавалась в том, что разочарована в муже. Для этого она была слишком горда и слишком сдержанна. Однако в душе ее постоянно тлело легкое недовольство, понемногу разрастаясь из-за отсутствия выхода. Луи напоминал стрекозу из известной басни, которая пела и радовалась все лето, не сделав никаких запасов на зиму. Впрочем, если бы она вдруг начала журить Луи за его поведение, он бы удивился и обиделся несказанно. Сам он считал, что тяжко трудится: возится со своими дурнопахнущими химикатами в крошечной, смехотворной лаборатории. Иногда она ездила туда с ним, наблюдала, видела его сосредоточенность, видела, с каким удовлетворением его бледно-голубые глаза глядят не отрываясь на все эти пробирки и инструменты, как он напевает при этом песенку; для нее в этой полной самоотдаче было что-то жалкое и ребяческое. Ее это ранило, и она невольно отворачивалась.