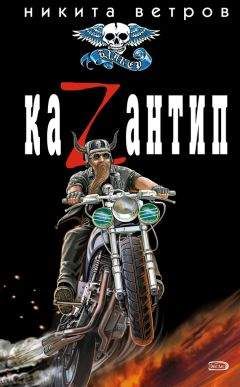Любко Дереш - Намерение!
И я улавливаю нотки отчаяния в голосе деда, и сам начинаю плакать, и дедушка, не понять почему, тоже начинает плакать на кухне, и оттого, что мой дедушка – такой мудрый и старый дедушка – плачет, я захожусь в плаче все сильнее, мы словно резонируем с ним на одной частоте, посылаем наше общее ОГРОМНОЕ ГОРЕ, мы двое, нас двое, мы одно – а все остальные нас не понимают. И тут из кухни на мой плач выходит мама, она вытаскивает меня из-под стола, а я реву во все горло, мама берет меня на руки и заходит на кухню, включая на ходу верхний свет, бабушка снова бросает что-то обидное дедушке, мол, напугал ребенка, и сама крестится, а дедушка – мне кажется, будто кухня – гигантских размеров зал, и посреди этого пространства, на маленькой табуреточке, сидит мой дедушка, худой, словно палочка, ссутуленный, лопоухий, в смешных больших очках, заплаканный, с обсосанными усами, – мой дедушка смотрит на меня, а я смотрю на него с высоты маминых рук.
Я с изумлением понял, что нырнул в воспоминания прямо посреди бабушкиного рассказа. Воспоминание было таким живым, что у меня в груди появилось ощущение, как после плача. Комната с бабушкиной кроватью, бабушкой и ночником дышала призрачной нереальностью. Я чувствовал потребность уединиться и продышать еще несколько воспоминаний, которые готовы были всплыть на поверхность.
Бабка, не замечая моего состояния, продолжала свое. А я, безнадежно теряя контроль над собой, то выныривал, то утопал в чем-то, похожем на сновидение, где бабкины слова воплощались в образы, переплетались с отзвуками действий, свидетелем которых давным-давно был я сам.…когда дома не было больше никого, дедушка позвал меня к себе на колени. На ушко он сказал мне, чтобы я один никогда не ходил за конюшню, потому что там «сидит бабайка». А я по своей воле туда бы и не полез – запущенный сад за конюшней пугал меня и без предупреждений. Пугал высокой крапивой, густой тенью и еще чем-то… чем-то, похожим на сон…
…когда однажды я полез-таки в «разведку» за конюшню. Оглядываюсь, не видит ли меня кто-нибудь. Светлые облака на небе, порывистый ветер пахнет дождем. Высокая трава во дворе, и никого из взрослых поблизости. Из будки, положив на лапы морду, выглядывает Муха. Я иду узким перелазом, надо мною высятся громадные стебли крапивы, которой я побаиваюсь. Но у меня есть палочка, палочкой можно раздвигать крапиву и пролезать боком. Я высоко прижимаю к груди пухлые локти, но все-таки обжигаюсь. Одолеваю последних крапивных часовых и вижу теперь весь сад – запущенный периметр, где растут низенькие искореженные яблоньки, они изобилуют маленькими, как сливы, зеленухами. Сад дышит сыростью и таинственностью. Неожиданно мое сердце екает – на траве я замечаю здоровенный кусок клеенки с теплицы. Клеенка побелела от непогоды, снизу покрыта каплями влаги. Чем дольше я смотрю на клеенку, тем страшнее мне становится. И тут словно какая-то сила начинает меня притягивать к клеенке. Ноги, словно не мои, сами ведут меня к ней, я чувствую, мир изменился и выгнулся, клеенка гипнотизирует меня. И вдруг, без предупреждения, вроде бы от порыва ветра, она взвивается из травы и бросается на меня, словно какой-то зверь, падает на меня и хочет накрыть с головой, меня обрызгивает водой, и я, не помня себя, вырываюсь из-под ее холодных объятий и бегу сквозь крапиву, бегу и понимаю, что клеенка гонится за мной, сейчас она накроет меня и заберет, я выбегаю за угол конюшни, изо всех сил бегу к Мухе в будку и забиваюсь в уголочек. Через какую-то минуту ко мне в будку залезает и сама Муха, начинает лизать меня в губы и дышать на меня своей зловонной пастью…
…потом до самого вечера я сидел в хате и украдкой поглядывал с веранды на конюшню, не ползет ли там клеенка. В тот вечер была очень беспокойная погода – поднялся ветер, сотрясал стекла и гремел жестью на чердаке… Впервые мне было так страшно. Ища защиты, я рассказал бабушке, как меня напугала бабайка, что пряталась под клеенкой. Бабушка сказала, что это был ветер, но я не мог поверить в такое.
Мама тоже успокаивала, и тетя, мамина сестра, успокаивала. Неля надо мной смеялась, я расплакался, и ее отругали. На шум в кухню зашел дедушка Иван.
Он один накричал на меня. Сказал, что это была взаправдашняя «бабайка», которая там ВЗАПРАВДУ живет, он это всем говорит, а ему никто не верит. Если я хочу, чтобы она меня забрала, – мое право, я могу гулять себе за хатой сколько влезет, но он предупредил: она тебя заберет в желтые норы, – так говорил дедушка, – заберет насовсем!..Когда я снова ощутил тело, то понял, что спал с открытыми глазами, при этом продолжая слушать, что там рассказывала бабуля, и даже ухитрялся кивать в нужный момент. Я растер лицо, уселся поудобнее в кресле, поправил бабушке подушку и попробовал уловить, на чем прервался бабкин рассказ. В голове было пусто.
Случайно ли так совпало, или так и должно было быть, но она как раз заканчивала рассказывать про конюшню и дедовы страхи. Мол, страхи эти со временем развеялись (или, я так думаю, он научился их держать при себе), хотя за хату все одно без крайней надобности старик не ходил. Так там все и заросло бурьяном.
Возможно, дед смирился с положением жертвы интриг. Начался новый период жизни на пенсии, и дед начал читать книжки . «Какие? – Иностранные!»
Дед еще с вуза малость знал испанский, а как пришло время, взялся учить его как следует. Тогда, где-то в конце семидесятых, это было более чем рискованно.
С точки зрения бабушки, уж лучше тихо быть себе придурковатым , чем напрашиваться на обыски и ссылку из-за неудачного выбора интересов.
Но дед, полагаю, понимал это и сам. И в качестве прикрытия (а может, это было настоящим призванием?) занялся переводом испаноязычной литературы. Причем творилось это прикрытие со знанием дела – дед выписывал литературные журналы, довольно долго переписывался с кем-то из членов Союза писателей, а однажды даже побывал на каком-то там писательском съезде. Где и познакомился со своим дружком по переписке – писателем-полиглотом без определенного возраста и с прошлым авантюриста. Бабка рассказала, что несколько раз этот писатель – «Вспомнила, Юрко его звали!» – приезжал к ним в село погостить. Писатель был простой и вежливый, что смягчило бабку и развеяло ее мрачные подозрения насчет дедовой антисоветской деятельности.
Следует сказать, что к ним в село в свое время приезжал-таки из города один кэгэбист. Походил по хате, присмотрелся, что где лежит, бабушка так перепугалась, что слова не могла вымолвить, так и простояла молча все время. А кэгэбист ничего вроде и не нашел, да и вообще вел себя так, будто заглянул на чай. Покрутился и ушел.Дед рассказал бабке, что Юрко знает много языков, в том числе санскрит, но специализуется на латиноамериканской литературе, часто бывает за рубежом в тех краях и может привозить оттуда разные книжки.
Дед вообще с некоторого времени увлекся культурой Мексики – возможно, на это повлияла литература, которую тайком привозил этот таинственный Юрко. «Официально» же дед специализировался на переводе и обработке некоего средневекового латиноамериканского лирика.
Бабка рассказала, что Юрко и дед все время говорили об одном писателе, который чем-то поразил и захватил деда. Рядом с Юрком дед становился азартным и неудержимо болтливым. Бабка имела все основания полагать, что Юрко знал и про дедовы видения, и про «привидения» за конюшней, и про «желтые норы».
– Но я-то и не знала, что дед твой от меня кое-что скрывает, – сказала бабка почти шепотом.
– «Скрывает»? – переспросил я.
– Дед твой начал ездить в Киев, где этот его Юрко жил. И не объяснял мне, что к чему, а так, только рукой махнет. Мол, не твоего ума дело. Ну, а я терплю и терплю, но мне ж тоже обидно, правда? И тут, однажды, ни с того ни с сего, дедуля твой начинает складывать чумайданчик. Я к старому: ты куда это? А он – то то, то се, мнется, а сбрехать по-людски не умеет. Тогда и говорит, прямо в лоб: «Я в Мексику еду». У меня чуть сердце не выскочило. «Когда?» – спрашиваю. «Завтра, в полседьмого вечера из Тернополя выезжаем на машине в Киев, а из Киева группой летим в Мехико». Да куда ж ты, старый, поедешь, – говорю, – ты ж без меня и туфли себе не почистишь! А он гнет свое, что его Юрко берет с собой, Юрко о нем позаботится. Я давай отговаривать Ивася, думаю, какая там к чертовой матери Мексика, никуда он от меня не поедет. Но вижу, что он на меня ноль внимания, и говорю тогда твоему деду: «Раз уж ты уезжаешь, надо устроить праздничный ужин…»Бабка пошла зарезала курицу и запекла на бутылке, накрыла стол белой скатертью, выставила бутылку «Столичной». Для виду даже бутерброды стала ему готовить «в дорогу». Дед Иван увидел, что к нему теперь относятся совсем иначе, и весь вечер как привязаный ходил за бабкой и выкладывал все, что в душе накипело. До поздней ночи она внимательно слушала деда, потихоньку его подпаивая, и дозналась вот о чем.
Во всем, конечно, был виноват этот авантюрист, Юрко из Киева. Он же ж не мог не видеть, что дедка наш малость того – слабая нервная система, впечатлительная личность, ему волноваться никак нельзя, – а Юрко давай деду о дальних странах рассказывать: о Кубе, о Панаме, да о Коста-Рике.