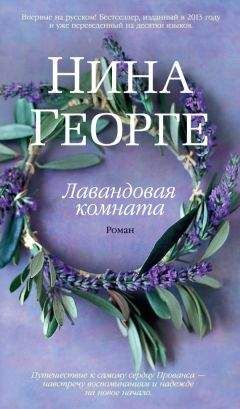Антония Байетт - Детская книга
Девочка моя, я не знаю, интересна ли тебе еще эта сказка – может быть, ты уже взрослая дама и оставила младенческое, – но я много думаю о тебе, а так как мое ремесло – писать сказки, я написала кусочек той сказки, которую до сих пор мысленно называю твоей. Ты не пишешь, как ты там живешь. Мы все по тебе ужасно скучаем. Твоему здравомыслию, пониманию, деловитости нет равных. Мы все без тебя стали какие-то унылые и запущенные. А Том ночует в лесу и возвращается ужасно грязный. Пожалуйста, доченька, пиши. Можешь не читать мою глупую сказку, если не хочешь.
Твоя растерянная и любящая матьТеперь Дороти нужно было кое-что сказать Ансельму, не прибегая к помощи Гризельды. Дороти набиралась немецких слов из повседневного обихода, но говорила еще недостаточно хорошо, чтобы объяснить Штерну, кто такая миссис Хиггль, или расспросить его о своей матери. В редкие минуты одиночества – вот как сейчас, сидя над листками из английской школьной тетрадки со сказкой об английских зверьках, которые были еще и людьми, – Дороти чувствовала, что Штерн околдовал ее. Она была счастлива только рядом с ним или на пути к нему – но при этом все время боялась, боялась ловушки или чего-то невидимого.
* * *Они сидели у него в мастерской. Она протянула ему пачку листов, полученных от Олив. И монотонно сказала по-немецки:
– Ein Brief von meiner Mutter. Ein Märchen. Ich habe meiner Mutter nichts von Ihnen – von Dir – gesagt.[50]
Он посмотрел на нее долгим, серьезным взглядом и взял бумаги. Дороти была в состоянии, через которое проходят все люди в начале влюбленности, – когда хочется сказать любимому или любимой – своему второму «я» – абсолютно все, выложить все, еще не зная, что может и чего не может понять и принять реальный человек. Гризельда сидела бледная, словно растворяясь в воздухе. Ансельм переворачивал страницы с рисуночками, изображающими ежиков, лягушек и подземные кухни с рядами кастрюлек. Он спросил у Гризельды:
– Что это?
– Скажи ему… Она пишет по сказке для каждого из нас. Это моя. Это причудливая история про волшебных ежиков.
– Я не знаю, как перевести «причудливая». – Гризельда взглянула на Дороти. – Не плачь. Зачем ты это принесла?
– В этой сказке есть немножко и от нее. Я хотела свести все вместе. Не переводи это.
Но он кивнул, словно понял.
– Хиггель, – произнес он. – Мис-сис Хиг-гель. Что такое миссис Хиггель?
– Eine Kleine Frau die ist auch ein Igel,[51] – объяснила Гризельда.
– Ein Igel[52], – повторил Штерн.
– Иглы? – эхом отозвалась Дороти.
– Нет-нет. Igel по-немецки еж.
– Ханс майн Игель.[53] Это сказка братьев Гримм. Он говорит, что ставил эту сказку для нее.
Она повернулась к Ансельму.
– Für die Mutter?[54]
– Genau.[55]
– Ясно. Миссис Хиггель – это Ханс майн Игель. Я много лет не играл эту сказку. Марионетка человека-ежа, я думаю, одна из моих лучших. Мы его найдем, и завтра я поставлю эту сказку. Я думаю, она назвала тебя миссис Хиггель в честь сказки «Ханс майн Игель». Это странная история. Одна женщина очень хотела ребенка. Она сказала, что готова родить кого угодно, хоть ежика. А в сказках люди получают то, о чем просят. Ее ребенок оказался на верхнюю половину тела ежом, на нижнюю – красивым мальчиком, и она воспылала к нему отвращением.
Гризельда не сразу смогла перевести «отвращение».
– Поэтому он спал на соломе у печки, ездил по лесу на боевом петухе и играл на… я не знаю, что такое Dudelsack.
Штерн показал жестом.
– Ага, волынка. Он сидел на дереве, играл на волынке, и пас свиней, и жил счастливо. Однажды он встретил короля, заплутавшего в лесу, и показал ему дорогу домой, а король пообещал отдать ему того, кто первый выйдет ему навстречу, и конечно же, это оказалась королевская дочь. И дочери пришлось выйти замуж за свинопаса, полуежа, потому что в сказках люди держат свои обещания. И она ужасно боялась иголок своего жениха, и ей совсем не нравилась игра на волынке. И вот в брачном чертоге еж втайне снял свою ежиную шкурку, и тут набежали слуги короля и сожгли ее в печи. Эту сцену очень красиво играть с марионетками. Он оказывается полностью человеком, но черным как уголь. И его отмывают и одевают как принца, и принцесса бросается к нему в объятия и очень любит его – больше всего на свете, – и с тех пор они живут долго и счастливо. Дороти, я думаю, что, когда твоя мать называла тебя миссис Хиггель, она думала про ребенка, который наполовину чужак, и еще про ежика – он ловкач, умный Ганс, персонаж немецких сказок. Ты – долгожданный, желанный ребенок, который наполовину происходит из неведомой страны, инакое дитя.
– В этой сказке, которую она прислала, ежиную шкурку украли. Но там ежихе нужна ее шкурка, в ней волшебство, которое помогает ей уменьшаться или становиться невидимкой.
Ансельм нашел старых марионеток из спектакля «Ханс майн Игель»: подменыша в колючей шубке, гордо выступающего красного петуха с золотым гребнем, мать с плаксивым выражением лица и двумя слезами на деревянной щеке – сначала она плакала оттого, что у нее не было детей, а потом оттого, что ее ребенок оказался неведомой зверушкой. Через несколько дней Штерн с помощью Вольфганга сыграл старую сказку. Эта пьеса была со словами. Они двое говорили за всех кукол, а Вольфганг играл спотыкающуюся мелодию на простенькой волынке. Все пришли смотреть – Иоахим и Карл, Тоби и Гризельда, Леон и Дороти. Дороти заметила, что кукольник тихо обижался, если она пропускала хоть одно представление в «Spiegelgarten». На блестящих иголках полуежика играл свет. «Я никогда не сдам экзамены, если буду каждый день просиживать тут и смотреть на танцующих кукол», – подумала Дороти. И все же, когда черное существо, бывшее ежиком, вылезло из колючей шкуры, как бабочка из куколки, и омылось и стало белым, чтобы возлечь с принцессой, Дороти была тронута до слез; внутри словно заплескалась жидкость. Дороти чувствовала: ее что-то кидает и тянет в стороны, как луна – приливные волны. Такого она не ждала и не просила.
* * *Через несколько дней, когда Гризельда вставала из-за обеденного стола в пансионе Зюскинд, Вольфганг поймал ее за рукав.
– Одно слово с вами… – сказал он по-английски. – В тихом месте.
Его пальцы словно били электричеством. Гризельда знала, что он за ней наблюдает, – под его цепким взглядом у нее горела кожа. Он умел быть и насмешником, и серьезным молодым человеком. Он ехидно прохаживался насчет баварцев и пива, шутил про кайзера и его гардеробы, набитые военными мундирами, про английского короля Эдуарда с его гаремом из знатных дам, про буров, стойко страдающих в Южной Африке. Он чувствовал себя как дома в странном новом мире сатиры, скетчей, намеков и неожиданных громогласных сантиментов. Он наблюдал за ней, Гризельдой. Увидев, что она это заметила, он кривил рот в презрительной ухмылке и отворачивался.
Она вышла за ним в сад, и они сели за столик под виноградной лозой, оплетающей шпалеру.
– Посмотрите-ка, – сказал он.
Он протянул ей большой альбом для рисования. Альбом был полон женских головок и, гораздо реже, фигур – во всех ракурсах, со всеми возможными выражениями. Рисунки углем, карандашом, мелом, тушью.
На рисунках были Дороти и Гризельда. Рисовавший изучал их костяк, волосы, выражения лиц, состояния души.
Сперва Гризельда решила, что это рисунки Вольфганга. Но тут он спросил:
– Что вы сделали с моим отцом? Он verzaubert – околдован. Он влюблен в вас? Люди говорят всякое… мне и моей матери. Он никогда таким не был, никогда. Вы свели его с ума?
Гризельда в ужасе воззрилась на собеседника:
– Ничего подобного. Это совсем другое. – Она лихорадочно думала. – Наверное, вам лучше спросить у него самого.
– Как я могу такое спросить? Он мой отец. Он всегда был… такой серьезный, немного отстраненный. Как я спрошу его, не влюблен ли он в одну из девушек-англичанок? Люди говорят моей матери всякое… недоброе.
Он мрачно сверлил взглядом стол.
– Мы требуем, чтобы вы оставили его в покое, – сказал он.
– Я только перевожу…
– Значит, это другая, та, Дороти…
Фурии заплескали крыльями в голове у Гризельды. Тайна принадлежала не ей. Она сказала:
– Это тайна. Я не вправе вам ее открыть.
– Что вы наделали?
– Послушайте, – сказала Гризельда. – Это их тайна. Я вам скажу, но только для того, чтобы вы перестали… думать плохое. Это тайна.
– Ну?
– Она его дочь. Она узнала об этом и приехала сказать ему. Он… он ей верит, вы же видите. Они… вы сами видите, как они вместе. Я только перевожу, – решила на всякий случай добавить она, в то же время исподтишка изучая собственное худое, бледное, красивое лицо, мелькающее на страницах альбома для рисования. – А вы – ее брат. Единокровный.
Вольфганг склонил голову набок и принялся разглядывать Гризельду.