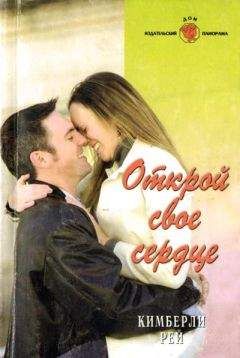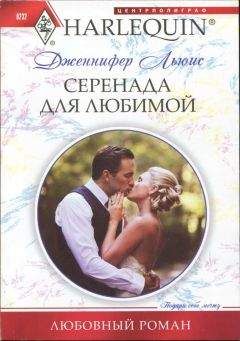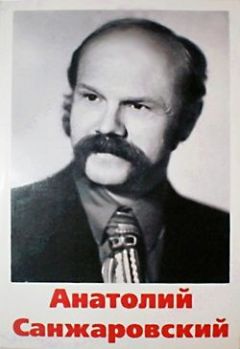Дэвид Духовны - Брыки F*cking Дент
Почерк угловатый и крупноватый, рука одиннадцатилетнего мальчика. Каллиграфический эквивалент дотестостеронового фанфаронства. Взрыв рыбы-шара. Тед ловил таких, когда они ездили к родственникам в Восточный Излип. Тед удил морских окуней на мороженый гольян, бамбуковой удочкой с пластиковым поплавком, в проливе Лонг-Айленд. Куда чаще, чем окуня, вылавливал он рыбу-шар. Защищаться она могла, лишь надуваясь вдвое-втрое против нормального размера, чтобы показаться хищнику врагом по-страшнее. Другого оружия, кроме надува, у рыбки не было, подумал Тед, – как и у многих людей, шаров надутых. Тед снимал рыбу с крючка и гладил ее по брюху, отчего и возникал такой вот забавный отклик. В еду они не годились – неядовитым был только хвост. Яд – оружие получше, чем надувательство, думал Тед. Всего несколько секунд – и вот уж в руках у Теда живой шарик-рыба, штука из кислотных снов. До исполинских размеров не раздувались только кривые зубы и шипастая коричневатая морда. И Тед перекатывал этот живой мячик с ладони на ладонь, словно питчер, выбирающий, как бы половчее схватиться, гладкая шкурка рыбы натянута чуть ли не на разрыв, колючая поверхность на ощупь – как трехдневная отцова щетина по воскресеньям. Все равно что держать отца за щеку. Кое-кто из Тедовых друзей брал ножик и протыкал рыбок в точности как надувные шарики; некоторым мальчишкам казалось, что это умора – смотреть, как рыбка медленно истекает жизнью, долго умирает. Тед так не делал. Он размахивался и зашвыривал рыбу как можно дальше в воду. Рыбка плюхалась и еще какое-то время плавала надутая – от неуверенности, что угроза миновала. Юный Тед видел в этом что-то очень человечное и грустное – в потешном, но отчаянном бахвальстве даже после того, как все закончилось, хотя в те поры Тед не смог бы облечь это в слова. Опасности нет, но театральщина эта, надутое существо-мячик, пузом кверху, голова под водой, – все еще напоказ. И затем, когда несчастная рыба, осознав некую благоприятную перемену в условиях, известных лишь ей одной, как-то определяла, что пронесло, она комично сдувалась, тонула и уплывала прочь – а на следующий день вновь раздувалась и веселила садистскую человечью мелюзгу.
Тед глянул на дату на первой странице: 1957. Точно, одиннадцать. Принялся листать. Ничто не зацепило внимания. Дневник, который Тед вел еще мальчишкой. Отец заставлял писать ежедневно.
– Это мышца, – говорил Марти. – Куй железо, пока горячо.
– Ты сам писал бы каждый день? – спрашивал юный Тед, потому что предпочел бы играть в настольный бейсбол сам с собой, да вообще почти что угодно предпочел бы, лишь бы не писать.
– Ты сам нахер заткнулся бы, а? – обычно отвечал отец.
Теда заинтриговало. Может, эти дневники – чис тый, незамутненный взгляд в прошлое, эдакий ключ к нему самому, вероятно способный отомкнуть будущее. Понять бы, что он есть, глядишь, смог бы стать чем-нибудь другим. Тед остановился на случайной странице и прочитал нечто вроде книжной рецензии.
14
«Лучший бейсбол», Томми Хайнрик[96]
Начало этой книги про Томми Хайнрика который говорит про бейсбол, про защиту и про нападение почти во всех играх. в бейсболе нападение наверху, а защита на поле.
Ну, может, этот вот фрагмент сокровенного бейсбольного знания и литературной критики – не искомый волшебный ключ. Тед перелистнул несколько страниц и прочел запись, датированную «27/3»:
Я взял Уолта в Питер-Купер и [ «я» зачеркнуто], как обычно, жалею об этом. Какой он зануда ничего не хотел делать вообще. [ «Когда» зачеркнуто] не выношу когда кто-то так делает я не могу объяснить, но просто не выношу. Я встретил Ричи Гроссмена и Криса Моделла (Тяф-тяф) и Крис такой парень что говоришь что-то и он тебя раздражает. Представляешь что он делал с Уолтом. А еще я играл в баскетбол.
Тед задумался над этим обращением на «ты». Кто, по его мнению, слушал, что происходило в послевоенных небогатых кварталах Питер-Купера и Стёйвесант-тауна? Кому вообще нахер сдалось знать, что он думал или кого там раздражал той весной Крис Моделл? Тед услышал, как снизу его зовет отец. Сложил тетрадки обратно в тайник, до следующего раза.
Тед спустился и обнаружил отца в кресле перед телевизором.
– Как дела, Марти? – спросил он.
– Если не считать плоскоклеточного рака – восхитительно.
– Ты же понимаешь, о чем я.
– Я ссу вермутом и сру серебряными долларами.
– Потешно. Хоть и мучительно. Может, стоит провериться.
– Почему ты зовешь меня «Марти»?
– Потому что такое у тебя имя.
– Почему ты не зовешь меня «папа»?
– Почему ты не зовешь меня «сын»?
– По-моему, иногда зову. Разве нет?
– Не знаю. Наверное.
Затем:
– Хочешь, чтоб я тебя звал папой?
– Да похер, признаться.
Тед вздохнул и присел на диван. Потаращились в телевизор некоторое время, хоть он и не был включен.
– Цветное?
– Он не включен.
– Я знаю. Идет сейчас что, цветное?
– Ага. Техниколор. Мне не нравится. Японское. Бездушное.
– Пурист.
Молчание.
– Некоторые смотрят телевизор, но ты, я бы сказал, смотришь на телевизор. Ты его включаешь вообще?
– Часто теряю пульт. Игра вечером?
– Наверное.
– Работаешь?
– Нет, они еще не вернулись.
Опять взгляды на телевизор. Проползла целая минута. Марти начал насвистывать что-то невнятное, а затем сказал:
– Нам не обязательно разговаривать, если тебе не хочется.
– Ага, у нас в последние пять лет неплохо получалось.
– Разве не год?
– Больше.
– Но ой как я скучал по этим вот отцовско-сыновним отношениям. Убиться прям.
– Не, не убиться, – сказал Тед.
Прошла еще одна бесконечная минута.
– Хочешь поговорить? – спросил Тед.
– Еще бы.
Но далее – ничего. Теду казалось, что он слышит каждый тик в очень шумных часах, как в программе «60 минут».
Марти заговорил:
– Не желаешь ли поговорить?
– А ты?
– Я первый спросил.
– Как хочешь.
– Ну, кажется, разговариваем.
– Да?
– У меня губы и язык шевелятся, воздух между зубами выходит.
– Это разговор. Верно.
– Или разговор про разговор. Славно, а?
– Ой да.
– Почему мы перестали разговаривать?
– Хочешь знать, как мы завязали с этим делом?
– Ага, ага.
– Я послал тебе книгу. Ты меня обозвал.
– Обозвал?
– Я послал тебе книгу, ты назвал меня гомиком.
– Ну нет.
– Да.
– А! – Марти рассмеялся, вспомнив. – Это плохо, доктор Бразерз?[97] Следует говорить «гомосексуалист», а не «гомик»? За этой ебаной словесной полицией не угонишься.
– Мне плевать, что ты сказал.
– Очевидно, нет. Очень даже не плевать.
– Меня это не зацепило. Просто ни туда ни сюда. Ты меня достал. Я послал тебе роман, спросил твоего мнения, а ты меня обозвал.
– Я не называл тебя гомиком. Я сказал, что ты пишешь, будто гомик.
– А, ну тогда, конечно, другое дело.
– Ладно тебе, я просто хотел сказать, что тебе не помешало бы пожить жизнь.
– А при чем здесь гомосексуальность? Гомосексуалисты не живут жизнь?
– Это фигура речи.
– Херня. Обычный сексизм, расизм или что угодно еще. Не важно.
– Это фигура речи, умник-разумник. Не стать тебе писателем, если будешь париться о словесной полиции. Ум у тебя должен быть не Сингапур, а Таймс-сквер.
– Пусть.
– Ты бы предпочел, чтобы я процитировал твоего любимого Берримена[98] и сказал, что твоя блядская жизнь – «сэндвич с носовыми платками»?[99] Так оно тебе больше по вкусу? Та же херня.
Тед глубоко и шумно вдохнул, дыханием и губами почти слепил слово, но не вполне, и вроде бы на том и конец, но нет, не смог он этого так оставить.
– А может, дело в том, что твои три последние подружки были моложе меня. Меня от этого как-то…
– Пробило на ревность?
– Покоробило. Перекосило нахер от отвращения.
– Бонни!
– Ее так звали? Мне она известна под именем Младенчик.
– Бонни. Бонни, а до нее – Эмбер.
– Имечко для стриптизерши.
– Она и была стриптизерша.
– Спасибо.
– И доктор африканско-танцевальных наук, к твоему сведению.
– На эту тему диссертации не принимают.
– Это ты так думаешь.
– Двадцать пять?
– Да какая разница? Двадцать три. Ее запах, Тед, ее запах придавал мне здоровья.
– Иисусе.
– Моника. Надо ей звякнуть.
– Ты в зеркало не поглядываешь последнее время?
– Говнюк.
– Давай не будем, а?
– О, о, конечно, давай. Мы можем давать не быть хоть целый день.
Это было выше Тедовых сил, в груди возникла бесприютность. Он сунул руку в карман и достал косяк. Марти глянул неодобрительно, но затем полез в карман халата и вытащил склянку с обезболивающим – эскалация войны препаратов. Покосился на Теда: моя дурь круче твоей, я выиграл.
– Это что, валиум?
– Может быть. Не знаю, валиумно я себя чувствую или кваалюдово. Видишь ли, иногда мне нарциссово, иногда маргаритково.