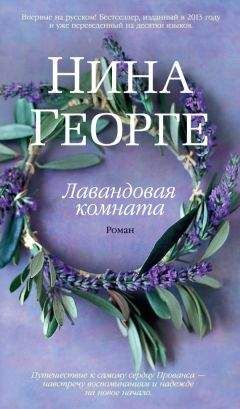Антония Байетт - Детская книга
– Вы, юная дама, кажется, веселитесь вовсю.
– Да.
– Это платье тебе очень идет. Очень удачное.
Он притянул ее совсем близко. Они завальсировали в сторону одного из больших, до потолка, зеркал, обрамленных, словно дверь, в литой чугун, обманно раскрашенный под сепиево-бурый мрамор. Зеркала стояли чуть под углом, создавая иллюзию, что зал бесконечен, что можно обогнуть невидимый угол и влететь в другое сверкающее пространство. Но было ясно, что это зеркало, в частности, потому, что спиной к нему на толстой мраморной колонне стояла греческая или римская нимфа. Спереди она скромно куталась в мраморную ткань, драпировавшую бедра, но не обнаженную грудь, которую нимфа испуганно прикрывала рукой – древним, традиционным жестом. Но странное дело – со спины нимфа была совершенно обнажена. Ее лопатки, тонкая талия и круглые ягодицы хорошо видны были зеркалу, но не зрителям. Пока отец вертел Дороти, приближая ее к зеркалу, она отвлеклась на эту нимфу. Дороти увидела собственное бледное личико, мечтательно глядящее поверх отцовского плеча, и собственную маленькую женскую ручку у него на руке. Свою непривычно высокую прическу и ярко-рыжую лисью шевелюру отца. А потом, после очередного оборота, снова взглянула в зеркало и увидела полночно-синее платье, собственную голую спину и плечи, властную руку у себя на талии, на непривычных пластинах китового уса, придававших ей форму.
– Если дальше будешь продолжать в том же духе, – сказал Хамфри, – они из-за тебя передерутся.
И добавил:
– Наверное, это правда, что всегда говорят, как ты думаешь?
Она не поняла, что он имел в виду.
* * *После бала Уэллвуды из «Жабьей просеки» отправились на Портман-сквер, где должны были ночевать у лондонских Уэллвудов. Олив сидела в задней части кареты с Томом. Дороти села лицом к ним и положила голову на плечо отцу. Они почти все время молчали: все были сонны и задумчивы.
* * *Катарина отправила молодежь в постель в сопровождении горничной, которая несла молоко, печенье в сахарной глазури и небольшую керосиновую лампу с абажуром матового стекла. Дороти, гостя на Портман-сквер, всегда спала в одной и той же комнате. Маленькая комната в высоком этаже выходила окном в сад, расположенный позади дома. Комната была отделана во вкусе Катарины – в пене белого муслина с примесью розового. Кровать напоминала гнездышко, прикрытое хорошенькими занавесочками. На подставке для умывания стояли таз и кувшин, расписанные розовыми бутонами по красивому сине-зеленоватому фону. Письменного стола или конторки в комнате не было. Другая молодая женщина могла бы счесть эту ностальгическую женственность очаровательной по сравнению с простотой и яркими цветами «Жабьей просеки». Только не Дороти. Впрочем, это убранство ее не раздражало, не выбивало из колеи.
Она выскользнула из бального платья и нижних юбок – горничная для этого была не нужна, так что Дороти ее отпустила. Другая горничная сейчас, несомненно, расстегивала корсет Гризельды. Дороти положила полночно-синее платье – не бережно, но и не как попало – на пухлое кресло с красивой обивкой, бросила сверху свои панталоны и надела простую широкую белую хлопчатобумажную ночную сорочку, лиф которой Виолетта украсила плиссировкой. Дороти подумала, что немного почитает, а потом уже погасит свет. Она пыталась читать сказки по-немецки, чтобы сделать приятное Гризельде. У Дороти не было особых способностей к языкам, а сказки внушали ей определенное недоверие.
Кто-то постучал в дверь. Дороти подумала, что это, может быть, Гризельда пришла поговорить про бал. Дороти не хотелось болтовни, но она сказала: «Войдите!» Ведь это был дом Гризельды, а Дороти любила Гризельду.
Дверь открылась медленно и бесшумно. Это была не Гризельда. Это был Хамфри, отец, в шелковом халате, на котором извивались китайские драконы. Он огляделся, ища, куда сесть, – но и пухлое кресло, и стул у ночного столика были заняты женской одеждой. Хамфри сел рядом с дочерью, провалившись в красивую перину, и сказал:
– Я думаю, нам нужно поговорить.
Его окружало облако паров виски. Дороти сердито подумала, что обе его жены – как она их теперь мысленно называла – должны бы что-нибудь сделать, чтобы он перестал пить или хотя бы пил меньше. Она ответила:
– Я устала.
Он обнял ее за плечи:
– Ты такая красивая. Я никогда не думал, что ты вырастешь такой красавицей. Королева среди девушек-розанчиков. Моя Дороти.
Дороти застыла.
– Я должен тебе кое-что открыть. Но мне так хотелось сказать тебе… сказать тебе… – он запнулся, – какая ты удивительно прекрасная…
Он жарко дышал на нее виски. Она отпрянула, и он неуклюже пихнул ее, отчего она потеряла равновесие и упала. Она зарыла лицо в подушку и пробормотала детским голосом:
– Уйди. Пожалуйста, уйди.
И тут он недвусмысленно сунул руку под белые хлопчатобумажные складки и коснулся обнаженной плоти. С Дороти слетела всяческая робость и растерянность. Она страшно разозлилась:
– Не смей. А то я закричу. Или позвоню.
– Я только хотел поиграться. Миленькая.
Его лицо маячило над ее лицом. Одна рука прокладывала себе путь под ночную рубашку. Другая зажала ей рот. Дороти вонзила в нее зубы. Вонзила со всей силы, а она была сильна. Она укусила мягкую подушечку ниже большого пальца, и рот наполнился кровью. Дороти замотала головой, не разжимая зубов, как мангуст, сражающийся с коброй.
– Сука! – сказал Хамфри. Он сел. Из руки текла кровь на белую постель с рюшечками. Он спросил: – У тебя есть носовой платок? Нужно остановить. Мне больно.
– Я и хотела, чтоб было больно. Как ты посмел? Вот тебе платок. Но он слишком маленький. У девчонок дурацкие платки. Иди найди полотенце. Тогда я что-нибудь порву на бинты и перевяжу тебя. Но мне нечего порвать. Если я изорву эту нижнюю юбку, Виолетта меня убьет, она столько времени на нее потратила. Так что остаются только трусы.
От этого слова она затряслась. И сказала, изо всех сил стараясь дышать громкими, рыдающими выдохами:
– Из этой комнаты нельзя ничего уносить, это все здешнее, а не мое, а то все узнают. Так что, кроме трусов, я ничего не могу использовать. Достань их сам. Они в комоде.
Ее подушка была заляпана кровью. И ворот ночной рубашки тоже.
Хамфри с чудовищной усмешкой сказал:
– У тебя кровь на зубках, как у горностая. И на губках тоже.
– Мне придется сказать, что у меня пошла кровь носом. У тебя тоже кровь на халате. Вряд ли у двух человек за одну ночь может пойти кровь носом. Значит, ты порезался при бритье.
Она пыталась разрезать трусы на бинты маникюрными ножницами, совершенно непригодными для этой цели.
– П…перестань… мной… командовать, – запинаясь, произнес Хамфри.
– Либо я буду командовать, либо забьюсь в истерике, и я думаю, что даже ты предпочтешь первое. Ты пьян. Мне приходится за тебя думать. И за себя тоже, – добавила она, подавив рыдание. Она не то дышала слишком глубоко, не то задыхалась.
Хамфри сказал:
– Это не то, что ты думаешь.
– Я что, слепая? Ты… на меня набросился. Вот она я. Тут хоть думай, хоть не думай.
– Нет, это важно. Есть причины. Я все неправильно сделал. Я всегда собирался тебе сказать. Когда придет время.
– Не нужно ничего говорить. Я все знаю.
– Что ты знаешь, по-твоему?
– Я дочь Виолетты. Кое-кто – не я – кое-что подслушал.
– Ну так этот кое-кто много чего напутал. Ты не дочь Виолетты. Филлис ее дочь. И Флориан ее сын. А ты дочь Олив. Но не моя.
Дороти подтянула покрывало к груди, как голая нимфа в бальной зале.
– Что?!
– Ты не моя дочь. Так что, сама видишь, то… то было… не то, что ты подумала.
Дороти окаменела.
– Я не так хотел тебе об этом сказать. Я тебя правда люблю. Всегда любил. И всегда буду любить. Милая моя. Ну скажи что-нибудь.
– Кто мой отец? – произнесла Дороти.
– Ты его как-то видела, он приезжал к нам на праздник Летней ночи. Тот немец из Мюнхена. Ансельм Штерн. Кукольник. Карнавальное увлечение… Ты сама видишь, что это ничего не изменило, – глупо добавил он.
Дороти произнесла:
– Ты ведешь себя как ребенок. Не соображаешь. Конечно, это все меняет. Я не та, кем себя считала. И Филлис, если уж на то пошло, тоже. Ты нас всех запутал. Вы все нас запутали, и ты, и те двое. Ты не можешь просто так взять и сказать, что это ничего не изменило.
– Я тебя люблю, – повторил Хамфри, сжимая забинтованную руку здоровой.
– Уйди, пожалуйста, – с достоинством отчаяния произнесла Дороти. – Мне нужно подумать. Я не могу думать, когда ты тут сидишь и говоришь глупости.
– Я старался как лучше, – виноватым и пьяным голосом сказал Хамфри.
– Ты вообще не старался, – презрительно ответила Дороти. – Ты просто заварил еще одну кашу вдобавок к той, которая уже была. Уходи. Пожалуйста. Завтра нам придется во всем разбираться.
– А если мы просто сделаем вид, что ничего не было…