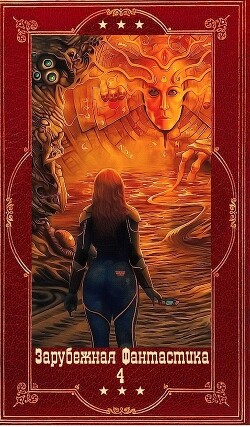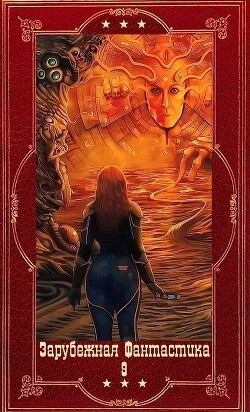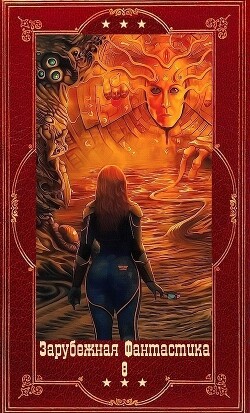Шанхай - Ёкомицу Риити
– Достаточно, все ясно.
При всеобщем молчании управляющий надменно и злобно уставился в окно, его рука мелко подрагивала.
Подумав, что этот гнусный человек не решится его уволить, Санки развеселился, выместив давнее чувство обиды.
– Ну, – сказал управляющий, – ты, Санки, отправляйся домой.
– Значит, с завтрашнего дня я могу не приходить?..
– Поступай как хочешь.
– Но я должен ходить на работу…
– Теперь тебе это делать необязательно.
– Понятно.
Выйдя из банка, Санки подумал: свершилось! Вот если бы из мести предать огласке махинации управляющего с депозитами, тогда бы началось массовое изъятие вкладов из банка. Но от наплыва требований о возвращении депозитов пострадает не столько банк, сколько вкладчики. А управляющий, приписывая ценность ничего не стоящему залогу, так или иначе покроет дефицит, в противном случае эти убытки рано или поздно, несомненно, выплывут наружу. Но пока все раскроется, сколько еще людей внесут вклады? Если объем этих вкладов покроет недостачу, сделанную управляющим, то вкладчики смогут выручить его. Разрываясь между совестью и желанием отомстить, Санки вышел на берег реки. Одно было совершенно ясно: он потерпел поражение. Завтра наверняка его настигнет голод.
9
О-Суги, пройдя несколько кварталов, почти дошла до дома Санки. Она изучала доски объявлений в надежде получить хоть какую-нибудь работу. У входа в переулок она заметила уличного гадальщика и остановилась. Кто же овладел ею прошлой ночью? Коя или Санки? – она опять терялась в догадках. Какая-то китаянка плакала, прислонившись к стене. Рядом с ней на столике с откидной крышкой подрагивала горка полупрозрачного светло-желтого свиного жира. Его куски, всасывая летящую из переулка пыль, то и дело колыхались – при стуке едущей вдалеке повозки или от топота ног. Ребенок, вставши на цыпочки, приставил кончик носа к дрожащему жиру и, не отрываясь, пристально рассматривал его. Над головой ребенка свисала облупившаяся золотая вывеска; кирпичный столб, испещренный пулями, изгибался под шелухой плаката, похожего на папье-маше. Рядом находилась скобяная лавка. До отказа заполнившие ее ржавые замки спускались с потолка до пола, как виноградные лозы, и вместе с уткой, свисающей напротив из окна мясной лавки, обрамляли сверкающий свиным и утиным жиром вход в переулок. Оттуда появились, нетвердо держась на ногах, бледные от опиума женщины с тусклыми глазами. Завидев торговца, они через плечо о-Суги, одна за другой, заглянули в жестяную банку для монет у его ног.
Вдруг кто-то хлопнул о-Суги по плечу, и она обернулась. Это оказался Санки, он стоял позади нее и улыбался. О-Суги слегка поклонилась, и постепенно ее лицо покраснело до кончиков ушей.
– Пойдем пообедаем, – предложил Санки и двинулся прочь.
О-Суги молча пошла следом. На углу улицы уже сгустились сумерки, и в лавке, где торгуют горячей водой, из черных котлов струился прозрачный пар. Здесь кто-то тронул Санки за плечо, и он обернулся – нищий русский протягивал руку:
– Дайте хоть что-нибудь. Я сильно пострадал от революции, мне некуда идти, мне нечего есть, я нищ. Остается только сдохнуть под забором. Подайте что-нибудь.
– Давай возьмем коляску, – сказал Санки.
О-Суги молча кивнула. Перед извозчичьим сараем хозяйка прямо около лошади ела жидкую рисовую кашу. Сев в старомодную коляску, они затряслись по ночной улице, уже обильно пропитанной туманом.
Санки собирался рассказать, что он тоже потерял работу. Но такое признание означало прогнать о-Суги на улицу. Только он был причиной ее увольнения, и поэтому о себе ему следовало молчать. Придав лицу беззаботное выражение, Санки сказал о-Суги:
– Ты все молчишь… Вероятно, осталась без работы?
– Да. После того как вы ушли, меня сразу же выгнали.
– Не переживай. У меня ты можешь оставаться, сколько захочешь.
О-Суги промолчала. Санки не понимал, о чем же она никак не решается сказать. Что бы то ни было, это его уже не впечатлит. Где-то позади громко взорвалась петарда. Американские военные моряки, размахивая стеками, погоняли своего возницу, и тот набирал скорость.
Коляска ненадолго остановилась у площади. Слева доносился запах пыли и вонь от свиней. Справа стояли, покачиваясь, проститутки. Из проулка вы́сыпали босоногие рикши. Когда на углу светофор поменял цвет, коляски и толпы людей хлынули темно-синим потоком. Рикша Санки тронулся с места, но тут зажегся красный сигнал светофора. Дома́, проститутки, коляски, залитые ярко-красным светом, словно превратились в реки крови.
Они вышли из коляски и втиснулись в толпу. Чуть в стороне несколько человек болтали, то и дело сплевывая на землю. Санки с о-Суги поднялись в ресторан по лестнице, выложенной керамической плиткой, и расположились в отдельной кабинке. Из кувшина свешивались на стол огромные зеленые листья табака.
– Ну что, о-Суги? Хотела бы вернуться в Японию?
– Да.
– Так почему бы не сейчас? Хуже уже не будет.
Санки в ожидании заказа прислонился к перилам и грыз тыквенные семечки. Он понятия не имел, где и как теперь достать денег. Но если вернуться в Японию, будет еще хуже. Как и везде, люди, когда-то уехавшие в эту колонию, по возвращении в метрополию не могли заработать себе на жизнь. По этой причине разные группы иностранцев сошлись здесь и, потеряв национальную идентичность, создали уникальное в своем роде независимое государство. Эти люди – словно изгнанники из своей страны, они захватывают каждый свободный клочок земли. Вот почему здесь тело отдельного человека (за исключением русских), пусть даже праздного безработного, живущего совершенно бесцельно, занимает определенное место в пространстве и тем самым является проявлением патриотизма.
При этой мысли Санки засмеялся. Действительно, если бы он находился в Японии, то только сокращал бы количество японских продуктов. Но он находился в Шанхае, поэтому занимаемое его телом пространство было своеобразным японским анклавом.
Его тело является японской территорией. Его тело и тело о-Суги.
Они оба лишились работы и теперь обдумывали, что им предпринять завтра. Санки вспомнились занесенные в эти края русские аристократы. «Их женщины живут, переходя из рук в руки иностранцев. А их мужчины – самые последние нищие, – думал Санки. – Это их страна виновата – в том, что заставила своих людей заниматься проституцией и нищенством».
«Не легче ли жить под пятой у других народов и просить милостыню у них, чем жить в ежовых рукавицах на родине и попрошайничать среди своих? – размышлял Санки. – Раз так, то и нечего сочувствовать этим русским».
И тут Санки задумался: а он и о-Суги причиняли ли кому-нибудь зло? Внезапно он вспомнил своего начальника: ведь это тот человек, которого Санки ненавидит. Он уж было забыл о том, что здесь, в Китае, ненависть к начальству равносильна ненависти к родине. И вот, в удел японцам, отринувшим родину и обитающим в Шанхае, тоже не досталось ничего, кроме нищенства и проституции.
10
Когда на Санки подействовало лаоцзю [16], больше половины блюд было уже съедено. На столе оставались нетронутыми мягкие губы восточной форели и похожие на уши грибы кикурагэ. Выпотрошенная утка, свиные почки, мышата в меду, к жареным яблокам суп с нефелиумом [17], свежий краб и дальневосточный морской гребешок.
Санки воткнул палочки из слоновой кости в затуманенный глаз утки, зеленый, как нефрит, и тихим голосом затянул японскую песню.
– Ну что, о-Суги, пой! Стесняешься? Что, хочешь уйти? Не валяй дурака. Не валяй…
Санки, притянув к себе о-Суги, хотел опереться локтем на ее колено. Но тот соскользнул, и подбородок ударился о ноги девушки. Краснея, она поддерживала голову Санки, готовую упасть на ее мелко дрожащие колени.
В кастрюльке, похожей на ночной горшок, принесенной невзрачным официантом, плавали, испуская пар, крупно порубленные плавники акулы. Поднявшись, Санки ухватился за перила и посмотрел вниз на улицу. Среди толпы в коляске рикши покачивалась гейша, на перекрещенные носы ее вышитых маленьких туфелек падал синий свет. Затмевая рекламные вывески, драгоценные камни ее ожерелья сверкали, как рыбья чешуя.