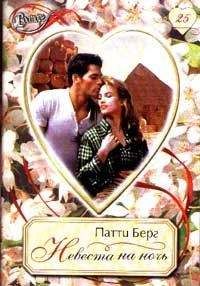Собрание сочинений - Сандгрен Лидия
Несколько месяцев спустя Ракель увидела картину, которую он написал после той берлинской поездки. На картине Ракель шла по сумеречной улице в развевающемся пальто и шапке из лисьего меха. Получился эмоционально точный портрет печального и встревоженного человека, и от этого ей стало ещё тяжелее.
А сейчас Ракель лежала, прижавшись щекой к полу туалета в парижском отеле, и её воспалённый мозг из последних сил высчитывал даты. Тот ужин, скорее всего, состоялся примерно тогда же, когда Филип Франке заглядывал в окна Сесилии. И Густав вполне мог, расставшись с одной Афиной Палладой, сразу пойти на встречу с другой. То есть они жили в Берлине в одно и то же время. И когда Ракель бродила, опустив голову, по университетским коридорам, она запросто могла пройти мимо матери, возвращавшейся с занятия греческим. Ракель могла проехать мимо матери на велосипеде по Унтер-дер-Линден. Пока Ракель сидела в библиотеке, склонившись над списком немецких глаголов, Сесилия могла ходить вдоль полок всего в нескольких метрах от неё. И Густав об этом знал. Он мог рассказать Сесилии, где находится её дочь. Как он использовал эту возможность?
Ракель склонилась над унитазом. Рвотные позывы сотрясали тело, живот скрутило, оставалось лишь отдаться процессу, обхватить руками холодные края унитаза и извлечь из себя всё. Прочь.
Острая жгучая боль в глотке.
Он либо промолчал, либо рассказал. Если рассказал, то решение не вступать в контакт приняла сама Сесилия. Отказалась от выбора быть с детьми или не быть с детьми. Снова повернулась к ним спиной и ушла.
Но если Густав ничего не сказал? Знал, но промолчал?
Она сплюнула в унитаз и с трудом поднялась на ноги. В дверь ванной постучали.
– Алло? Как там? Тебе что-нибудь нужно? – Она открыла, Элис покачал головой и сказал:
– Ты жутко выглядишь.
Ракель упала на кровать и, видимо, уснула, потому что через какое-то время её разбудило нависшее над ней лицо брата.
– Ты в порядке? Я хочу пойти погулять. Они же жили на Сен-Жермен, да? Папа и остальные?
– Да. Рядом с Рю де Ренн.
Ракель прислушалась к себе, её вроде бы больше не тошнило, она чувствовала лишь бесконечную усталость.
– Пешком это очень далеко, но ты можешь поехать на метро. Дай карту, я покажу.
Элис вытряхнул содержимое рюкзака на кровать: бутылка воды, пачка листов A4 с переводом, зарядка для мобильного, папина карта Парижа со списком улиц на обороте.
– Зачем Гугл-карты, если у тебя есть список улиц? – настаивал отец, не слыша протестов. Когда Элис разворачивал карту, из неё что-то выпало на пол.
– Какая-то фотография, – сказал он равнодушно и протянул её Ракель.
На полароидном снимке молодой Мартин сидел рядом с красивой брюнеткой. Она обнимала его одной рукой, а его рука лежала у неё на бедре. Они смеялись, она склонила голову к нему, и их подбородки сложились в пазл. На обратной стороне фото была напечатала дата: 03 oct 86.
Голос Элиса доносился будто издалека.
– Фиолетовая ветка идёт до «Сен-Сюльпис». Ты уверена, что тебе ничего не нужно в аптеке? Наш препод по французскому утверждает, что во Франции можно без рецепта купить любое ядерное болеутоляющее.
32
От холода, обрушившегося на неё каскадом в ду́ше, перехватило дыхание. Ракель досчитала до тридцати, потом до шестидесяти. На числе «сто» кожа покрылась пупырышками, но в голове прояснилось, сегодняшняя встреча с Филипом представлялась смутной, как сон, приснившийся в лихорадке, но логика заработала.
Элис ещё не вернулся. Ракель вышла из отеля на нетвёрдых ногах. В животе урчало. Она как будто ни разу в жизни не ела. В сумке лежала толстая тетрадь с переводом и Ein Jahr, захватанные страницы уже начали отрываться от корешка. Но осталось перевести всего несколько глав.
Она шла по улице. Стоял ранний вечер. Над крышами простиралось небо в нежных оттенках синей пастели. Дневное тепло сохранилось, но липкая жара ушла. Квартал был заполнен людьми в летних одеждах. Ракель зашла в попавшийся по пути вьетнамский ресторан, сощурилась от люминесцентного освещения и села за столик, покрытый пёстрой клеёнчатой скатертью. Заказала пиво, роллы и лапшу. Пиво было холодным, и она залпом выпила половину бокала. Проглотила роллы, как только их принесли. Пропитанная маслом оболочка таяла во рту.
Ракель вытерла жир с пальцев. Многое нужно понять, она начала с матери. Думай, Ракель Берг, думай. Не слишком много и не слишком мало. Сто́ит подумать, и человек перемещается в твою собственную голову, но сто́ит почувствовать, и происходит то же самое. Ты замыкаешься в самом себе, в мирке собственных впечатлений. Чувствовать можно, в принципе, всё что угодно, но далеко не факт, что это хоть как-то соотносится с реальностью. Что-то увело Сесилию от её детей, мужа, работы, жизни, и едва ли это был здравый смысл. Да, рационального учёного Сесилию Берг здравый смысл здесь явно подвёл. Полный коллапс интеллекта. Одна непродуманная глупость за другой.
Сначала бунт, исчезновение, ставшее чёткой границей в жизни семьи, да и в её собственной жизни. Такой уход не забыть. Эта рана останется навсегда. Нельзя будет притворяться, что это исчезновение – пустяк, ибо оно вне сферы нормального. А после того, как ты совершил нечто невыразимо глупое, возможно только одно – попытаться что-нибудь об этом сказать. Но далее последовали годы молчания. Ни единого признака жизни. Ни попыток примирения. Словами нельзя отменить случившееся, но можно проложить путь вперёд. Однако вместо того, чтобы заговорить, виртуозно владеющая языком Сесилия предпочла молчать. Переводчику нечего добавить.
Принесли суп. Ракель отхлебнула бульон так, что он пролился на её последнюю чистую рубашку.
И потом это её шастанье по окраинам старой жизни. Независимо от того, говорил ей Густав или нет, само его присутствие – это возможность для возобновления контактов с семьёй. Или было, поправила себя Ракель, – было возможностью. Она посмотрела на лежавший на столе мобильник. Тёмный безмолвный экран.
Сесилия бросила Мартина, бросила детей, бросила Филипа Франке. Но не бросила Густава. К Густаву она вернулась. Выбрала его и не выбрала их. Потому что это именно так: что бы ты ни сделал, ты делаешь выбор. Ничего не предпринять – это тоже действие. Жизнь есть постоянное движение вперёд через бесконечные развилки, где тебе приходится выбирать. Либо одно, либо другое направление. И если ты не принимаешь жизненно важное решение, это не означает, что ты от него избавляешься – ты просто делаешь пассивный выбор. На протяжении стольких лет дети, она и Элис, находились на расстоянии телефонного разговора, но Сесилия ни разу не позвонила. С другой стороны, разговор оставался постоянной возможностью: она могла позвонить. Она сама поместила себя в положение кота Шрёдингера – когда одновременно можно навсегда вернуться и навсегда исчезнуть. Густава она смогла бы бросить снова – вероятно, именно поэтому к нему она и вернулась. Ведь вернувшийся обязан признать последствия своего ухода, а в чём мог упрекнуть Сесилию Густав? Она бросила старого друга – всё, что он мог ей предъявить. Он мог осудить её поступок, исходя из общей морали и этики. Но возмущённый и увещевающий друг, если Густав, в принципе, мог быть таким – в чём Ракель сомневалась, – это совсем не то, что брошенная семья. А до семьи ей не было никакого дела. Роль матери её не прельщала. Её не интересовала пустота, образовавшаяся после её ухода. Пусть на том месте, которое она когда-то занимала, будет дыра.
Довесок к вопросу как она могла бросить детей, неумолчное жужжание которого сопровождало Ракель всё детство: почему она не вернулась? Каждый день, прошедший с момента её исчезновения, равнялся дню, в который она не вернулась. Ребёнком Ракель придумывала утешительные сценарии, и все они исходили из того, что Сесилия стремилась домой, но ей мешали разные причины. Может, она потеряла память, как Джина Дэвис в фильме «Долгий поцелуй на ночь», который десятилетняя Ракель увидела на канале «ТВ4» однажды вечером, когда у Мартина горели какие-то сроки и он начисто забыл о том, во сколько она должна ложиться спать. Или мама незаслуженно оказалась за решёткой в какой-нибудь стране, где нет честного правосудия. А может, она находилась на борту потерпевшего кораблекрушение судна, но выжила, еле выбравшись на берег необитаемого острова, и сейчас ест там кокосы и пытается добыть огонь с помощью увеличительного стекла и клочка бумаги… Со временем Ракель поняла, что это были детские выдумки, но об альтернативных объяснениях думать не хотела. Они были хуже. Об этом нельзя думать, это надо задвинуть подальше. Поэтому альтернативные варианты Ракель игнорировала, и всякий раз, когда видела или читала о ком-то, кто потерял память, где-то очень глубоко в её душе начинала теплиться надежда.