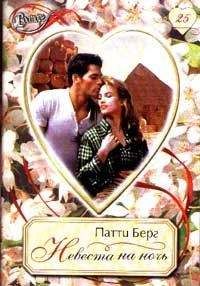Собрание сочинений - Сандгрен Лидия
– Вставай, – приказал он. – В музее есть туалет. – Он перебросил через плечо её полотняную сумку, крепко взял Ракель за локоть и ловко провёл через фойе с работающим кондиционером к туалету для инвалидов, после чего тактично предоставил её самой себе.
Ракель встала на колени возле унитаза, и её вырвало.
Когда живот более или менее успокоился, она с трудом, но поднялась, умылась и прополоскала рот. Отражение в зеркале являло собой печальное зрелище: влажные пряди волос торчат в разные стороны, бледные щёки, мутный взгляд. Привкус желчи в горле. Она включила максимально холодную воду и поставила под струю ладони и запястья, а потом наклонила голову и выпила из крана.
Элис стоял в музейном магазине и разглядывал модель одного из первых аэропланов.
– Купить? – произнёс он. – Как думаешь?
Закрыв глаза и уперев голову в окно вагона метро, Ракель рассказывала о женщине, которая, по идее, должна быть Фредерикой. Иногда Элис о чём-то переспрашивал, и Ракель изо всех сил старалась говорить так, чтобы он её слышал: вверху стекло было опущено на несколько сантиметров, что обеспечивало приток живительной прохлады и страшный грохот подземных рельсов. У Северного вокзала они вышли.
Их гостиница располагалась в здании девятнадцатого века, от которого остались только стены, все внутренние пространства были перестроены и превращены в тесный улей с маленькими комнатами и узкими коридорами. Все полы покрыты ковролином цвета, который можно было бы назвать песочным. В их номере стояли две односпальные кровати с белоснежными простынями и пёстрыми покрывалами, жёсткое кресло и узкий письменный стол, за которым, видимо, никто и никогда не писал.
Ракель рухнула на кровать. Элис ходил туда-сюда от двери к окнам, выходившим на вокзал и перекрёсток с интенсивным движением.
– То есть он всё это время знал? Предатель.
– Наверняка есть какое-то объяснение…
– Всё равно это ненормально, – фыркнул Элис. – Подумай о папе. – Он сказал, что должен покурить и долго пытался открыть окно.
У Ракели всё время урчало в животе. Доносившиеся с улицы звуки вонзались в мозг, а от горящей лампы под закрытыми веками лихорадочно распускались цветы.
– Что? Опять тошнит? Идём. – Элис помог ей встать и довёл до ванной.
Ракель легла на кафельный пол, свернувшись клубком. В отличие от туалета в Музее искусства и ремёсел, здесь было безупречно чисто. Она смогла бы пролежать на этом полу в позе зародыша целую вечность, отодвинув мир на безопасное расстояние. В ожидании рвотного позыва она вспоминала Густава, будничные ситуации, по непонятным причинам осевшие в памяти и сейчас отделяющиеся из прошлого. Среди них были и его приезды в Берлин.
На протяжении того года, когда Ракель учила немецкий, что для большинства прочих шведских студентов было эвфемизмом бесконечных тусовок, Густав навещал её регулярно. Говорил, что просто заехал по пути – на очередную выставку или ещё куда-то, куда его «обманом завлёк» галерейщик, – но чаще всего, как ей казалось, он просто уставал от Швеции. У неё было всего несколько лекций в неделю, остальное время она проводила либо в городской библиотеке, либо в бассейне. В библиотеке читала, учила длинные списки слов и повторяла глагольные формы, пока в голове не образовывалась каша из имперфектов и презенсов. В бассейне без спешки переодевалась, окружённая немецкими тётеньками, которые не обращали на неё никакого внимания, и проплывала столько дорожек, на сколько хватало сил, после чего плелась в сауну. Так проходили дни между визитами Густава. Он всегда звонил заранее, спрашивал, есть ли у неё время, желание и силы увидеться со старым крёстным, и она всякий раз говорила «конечно», после чего меняла планы, если они были. Обычно они отправлялись на какое-нибудь связанное с искусством мероприятие, гуляли по городу, если была хорошая погода, и ужинали в одном из лучших берлинских ресторанов. Особенно отчётливо Ракель помнила случай в самом начале. Они отправились в «Борхардт». Она надела своё единственное приличное платье, чёрное с длинными рукавами из прозрачного кружева, которое купила за пять крон в секонд-хенде, и убрала волосы так, чтобы не было видно, что она стригла их сама маникюрными ножницами, когда была пьяной. Густав в рубашке вид имел непривычно достойный и настоял на меню из семи блюд, чтобы отпраздновать проданную картину.
– Мне она очень нравилась, и на самом деле я не хотел её продавать, – сказал он. – На ней, кстати, твоя мама. Но её купил музей, и мне заплатили хренову тучу денег. Как будет шампанское по-немецки? Или у них есть какой-нибудь местный аналог, чтобы не поддерживать вражескую Францию?
– Мне кажется, всё, что касается Франции, изрядно преувеличено. Ты можешь заказать бутылку? Бери «Дом Периньон», если есть.
Он покопался вилкой в икре, предложил ей свои гребешки, отодвинул в сторону тарелку с палтусом, вылил в бокал Ракели остатки шампанского и жестом попросил одного из бесшумных официантов принести ещё. Потом откинулся на спинку стула и сказал, что хочет услышать всё, что касается Берлина.
Ракель напряглась и – достаточно, как ей казалось, честно – рассказала о своей жизни.
– Ты способная, – сказал Густав с сияющим лицом. – И по-настоящему дисциплинированная. В точности как Сесилия.
В его глазах Ракель жила исключительно аскетично и добродетельно, как уменьшенная копия той Афины Паллады, которой была её мать. Истина, однако, заключалась в том, что все свои привычки и правила она придумала для того, чтобы справляться с жизнью. У неё не было денег, она чувствовала себя несчастной. Александр влюбился в другую. Она не могла удержаться от того, чтобы следить, когда он уходит и приходит, если приходит вообще. Лучше всего было находиться в квартире как можно меньше и всегда быть чем-то занятой. Если думать о глагольных формах, не надо думать обо всём остальном. Если до изнеможения плавать, у тикающей в груди тревоги наступит передышка. То, что Густав считал талантом и дисциплиной, на самом деле было попыткой избежать коллапса.
По сути, Ракель никогда раньше как следует не училась – гимназия была временем лихорадочного чтения учебника в коридоре перед уроком и сочинений, которые пишутся в последнюю ночь, – Ракель только сейчас поняла, как хорошо всё получается, если она прикладывает усилия. Она была лучшей в классе, преподаватели считали её очень способной. Что, впрочем, подразумевало, увы, не гениальность, а лишь то, что она предпочитала библиотеку «Бергхайну». Она не тратила время на то, чтобы прийти в себя после безудержной амфетаминовой ночи, не сжигала синапсы, как бенгальские огни, и хотя чисто теоретически сумрачное наркотическое подполье могло бы стать притягательным, но ей не хотелось потерять тот маленький контроль над собственным существованием, который давала учёба и желание говорить на немецком без ошибок и бегло.
Сидевший напротив Густав внимательно её рассматривал:
– Ты нормально питаешься? Ты очень худая.
– Ты говоришь как папа.
– Ты не можешь вот так взять и иссякнуть.
Глядя в свою тарелку, Ракель сказала:
– На самом деле в последнее время всё было довольно сложно, – и в следующую секунду пожалела об этом.
Густав начал теребить в руках салфетку.
– Жизнь, – проговорил он. – Что тут скажешь. Бесконечная череда трудностей и разочарований. Давай вот, съешь ещё. Молодые думают, что со временем станет лучше, а старые думают, что лучше было, когда они были молодыми, хотя бы поэтому. Слушай, а рыба весьма неплоха.
– Да, действительно.
– Место всё же супер. Буржуазное до жути, но вот вопрос – не слишком ли много дерьма незаслуженно выливается на буржуазию в последнее время? Ведь, что бы там ни было, именно буржуазия несёт, так сказать, цивилизацию, разносит, так сказать, созданные цивилизацией яйца Фаберже по мрачным траншеям нашей любимой Европы… Откуда это?
– Понятия не имею.
– Может, Селин или Гессе? В любом случае…
Большое и тёмное одиночество разрасталось, превращаясь в непреодолимый глинистый ров между нею и миром. Густав выходил курить через равные промежутки времени. Один раз он отсутствовал дольше двадцати минут. Официант вежливо поинтересовался, не желает ли фрейлейн чего-либо ещё, но фрейлейн лишь покачала головой и улыбнулась, не разжимая губ. Она уже подумывала просто встать и уйти, но тут Густав вернулся, хлопнул подтяжками, поправил съехавшие на кончик носа очки, сто раз извинился за своё невежливое отсутствие и потребовал, чтобы они в любом случае съели по кусочку шварцвальдского торта.