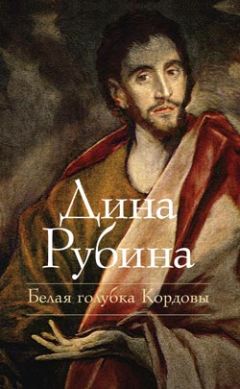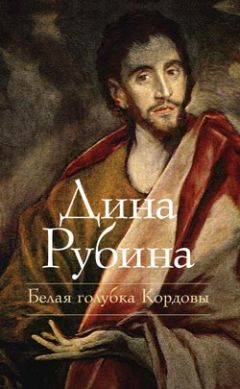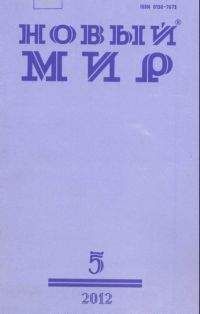Дина Рубина - Белая голубка Кордовы
– Ты спятил, – начала Жука. – Сопляк, ты знаешь, что такое Блокада? Мы продали все кольца, шкатулки, запонки… мы жрали картофельные очистки, варили папину портупею… однажды тетя Ксана принесла соседскую кошку, и мы разделали и сварили ее, потому что хотели есть!!! мы…
Он быстро наклонился, обеими руками вцепился в ее густые кудри, легко потянул, но она закричала:
– А-а-а!.. что ты делаешь, паскудник?! От-пус-ти!!!
– Жука. Я тебя убью, – глядя на нее без улыбки, пообещал Захар.
– Я не помню… – жалобно проговорила она, подняв на племянника умоляющие глаза.
– Смотри! – он отступил на середину комнаты, подняв обе руки, как дирижер перед оркестром; и точно как дирижер перед начальными тактами увертюры, смотрел на нее напряженно и грозно:
– Смотри: вот я – это он. Я – твой папа. На стенах висят картины, да? Особенно тут, в его кабинете. Много картин… вот тут… и тут… Висят рядком, близко друг к другу, как обычно у коллекционеров… – Лицо его горело, грудь изнутри отчаянно жгло. Жука завороженно следила за раскрытыми медленными ладонями, гипнотизирующими ее.
– Да… – пробормотала она. – У нас висело много картин…
– Его предупредили об аресте, я это сейчас узнал. И он уже все решил, и хочет спасти семью и спасти картины. Смотри на меня! Я – папа… Вотя снимаю их со стен… вынимаю из рам… снимаю холсты с подрамников… долго, обстоятельно, методично упаковываю – ведь он был аккуратным и предусмотрительным человеком. Ты видела, как он их складывает…
– Да…
– Куда он их сложил? Жука! Смотри на меня! Куда! Я! Их! Сложил?!
– В серую папку, – сказала она и зарыдала, горько и счастливо, потому что весь тот хлопотный день вдруг раскрылся у нее перед глазами, как восстает в иллюзорном объеме картинка в детской вырезной книжке…
Возникла Ленуся, вся голова в бигудях, сама в халате из темно-синего китайского шелка, а вспученный желтый дракон по спине распластался:
– Захар, ну она плачет, плачет! Ты обещал взять ребенка с собой…
– Жука, дурка! Прекрати реветь, иначе не возьму…
Захар задохнулся, подошел и прижал ее голову к груди.
– Молодец! – сказал он, гладя тетку по черным кудрям. – Молодец, малышка. А где? Где серая папка?
– Мы отвезли ее в Винницу! – крикнула Жука, и у Захара обвалилось что-то в животе. А Жука, захлебываясь слезами и хлынувшим воспоминанием, бормотала: – Она занимала так много места в купе! А еще поезд вдруг остановился в степи, там горела пшеница, вдоль полотна… и папа выскочил первым и стал сбивать пламя своей кожаной курткой… Он кричал и сбивал пламя курткой. И тогда все высыпали из поезда и стали тушить огонь… И еще, мы с папой были в парикмахерской, в отеле «Савой», и парикмахер спрашивал – будут ли погромы, а потом папа рассказывал мне – что такое «мене, мене, текел упарсин»… и я…
– Куда в доме он спрятал папку… – безжизненным тоном спросил Захар, уже предчувствуя ответ.
– Кажется, он спустился в подвал, и потом как-то странно шутил, что квашеную капусту есть теперь чем покрывать.
– Всё. – Как-то страшно и тихо сказал Захар и вышел из комнаты, по пути включив ей эту самую поговори со мною… Пусть смотрит. Поговорили…
Когда, умыв холодной водой пылающее лицо, он вернулся в комнату, Жука стояла у окна на одной ноге, разведя руки в стороны и наклонив горизонтально корпус.
Он смотрел на нее, не веря своим глазам.
– Видишь, – сказала она, улыбаясь заплаканным лицом. – Я могу еще делать арабеск.
7
Он подготовился к поездке, как готовятся в экспедицию. В четыре утра был уже на ногах и, бесшумно передвигаясь в свете ночника, чтобы не разбудить Жуку, сложил в рюкзак все, что полагал необходимым: японский нож, веревки, ножницы, клейкий пластырь, листы бумаги, толстую пленку, несколько видов клея… Хорошо, что на всякий случай он держит дома какие-то необходимые вещи.
И впервые с удовлетворением подумал – дедова предусмотрительность..
Внутри подрагивало и бормотало – знакомый рокот натянутых струн, – как обычно бывало в минуты опасности или большого напряжения – перед рискованными драками, например. И если б кто-то вдруг стал у него сейчас на пути, он был бы попросту сметен, смыт с картинки.
Но поезд следовал своим обычным курсом, перебирая столбы и стволы деревьев, – этим путем он уже следовал не раз, когда приезжал на каникулы домой. Разве что, в отличие от прошлых наездов, он почти всю дорогу простоял у окна в коридоре, не в силах поддержать разговора с пожилой парой, что возвращалась из отпуска к себе в Одессу.
* * *– У меня мой Сёма ухожен, как чистый младенец! – крикнула тетя Лида, увидев Захара в отворенной калитке. На старости лет она оглохла, но в безумии своем этого не признавала, ей казалось, что все вокруг подло шепчут, принимая ее за дурочку. – Но Сёма – чистый младенец, подмытый и накормленный, вот, сам посмотри, Зюнька, и не шепчи мне назло, говори нормально, понял? Твоя старая тетка еще не рехнулась.
К сожалению, подумал Захар, моя старая тетка рехнулась окончательно. В первый же момент встречи, когда он вошел во двор, она всплеснула руками и закричала: – Слышь, Сёма, Зюнька-китаец явился!
И Захар обреченно вздохнул, поднялся на террасу и прошел в спальню к дядьке.
И был поражен превращением того в библейского праотца: черты лица, заострившись, приобрели живописную глубину теней, косматые седые брови значительно вздымались на надбровьях, нос, всю жизнь мясистый и бесформенный, будто кто-то, засучив рукава, перелепил, убрав лишнее, утоньшив переносицу и ноздри. Главное, длинные желтовато-седые кудри окаймляли это изможденное лицо. Захар не удержался и, прикоснувшись губами к его щеке, проговорил:
– Ты такой стал красивый…
– Красивый… – усмехнулся дядя Сёма. – Это я для старухи с косой прихорошился…
– Не шептать! – крикнула из кухни тетя Лида. – Говорите нормально!
– Не обращай внимания, Зюня… – пробормотал дядька. – Она полный эвербутл, но она хорошая, Лида. Она так за мной ходит, так ходит…
– Он у меня лежит чистый, как младенец! – крикнула из кухни тетя Лида, словно услышав их разговор.
– Много сейчас о жизни думаю, Зюня, – говорил дядька. – Вдруг она прошла, оказалось, что я – последний. Я и ты. Но ты молодой, сильный, и все в тебе перемешалось. Я хочу вот что сказать тебе, Зюня…
Далее затеялся тот самый разговор о дурной кордовинской крови, в отличие от трудовой и честной крови Литваков… – разговор, который ему приходилось вести теперь, время от времени приезжая в Винницу. Будто, всю жизнь храня в каких-то потаенных запасниках души свою ненависть к сопернику, к давно покойному Захару Кордовину, Сёма сейчас заново ее перебирал – как перебирают одежду при смене сезона. Он словно приготовлялся к личной встрече с ним – там, где отношений уже не выясняют. Или выясняют все-таки? А может, наоборот – там-то их и рассудят окончательно за всё: и за Нюсю, и за чертовское везение Захара, и за то, что так счастливо улизнул он из жизни, оставив всех на него, на Сёму… За то, что именно он, Сёма, несчастный Иов, должен был хоронить и сидеть шиву по его младшей дочери и воспитывать его внука… В конце концов, за то, что он должен был так тяжко их обоих любить: разве это справедливо?