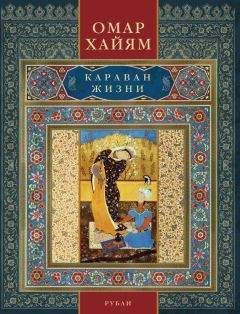Пол Теру - Моя другая жизнь
Мимо прошла женщина с тяжелым английским подбородком и бросила на меня сердитый взгляд. Это оказалась Бетти, жена господина Пиллая. Ее вставные зубы были очень белыми, но во рту стояли кривовато. Волосы стягивала прозрачная сетка-невидимка. Заметив мой нетерпеливый жест, она сжала свои собачьи челюсти и заиграла желваками.
— Чего вам?
— А джема нет?
— Раз не видите, значит нет.
Сколько раз я слышал эту фразу от английских лавочников, но знал, что она далека от истины: английское общество стоит как раз на том, что не видно глазу, да и культура здешняя соткана из невидимых нитей. Все таится под спудом: отношения, чувства. Жизнь в Англии загадочна почти по-восточному. Иными словами, малиновый джем здесь, конечно, имеется, но — как все ценное — он спрятан, и надо знать, как попросить. На то она и Англия.
Я завидовал людям за соседними столиками: сидят парами, как голубки, читают утренние газеты или переговариваются — не словами, а взглядами. А я лишен бессловесной интимности супружества. Впрочем, теперь меня все это угнетало: тихие нежности, жизнь рука-в-руке, выразительные взоры, непомерная близость… Я больше в этом не нуждался. Я нуждался в чужих и, желательно, диких людях.
Я сидел один, ковырял ужасный мой завтрак, горевал об утраченном прошлом и ненавидел себя за то, что потрудился — по глупости — пересечь океан, то есть предпринял еще одну отчаянную и никчемную попытку побороть одиночество.
Наконец молчаливый слуга-индиец провел меня по вонючей лестнице и коридору в отведенную мне комнату. Половицы гуляли и скрипели под ковровой дорожкой от каждого шага. Проходя мимо чьей-то спальни, я услышал разъяренный женский голос:
— Убирайся прочь!
В ответ неразборчивое бормотание мужчины, потом снова женщина:
— За все это время ничего, кроме жалоб, я от тебя не слышала!
Я напрягся, но индиец даже ухом не повел. Через пять дверей он сунул ключ в замочную скважину, подергал, покрутил и распахнул дверь в тесную комнатенку. Жестом пригласив меня внутрь, сам он остался за порогом, как надзиратель, препроводивший в камеру нового заключенного. Я тут же задернул шторы, улегся в полутьме и уснул.
Мой отдых был внезапно прерван криками из-за перегородки:
— Больше я этого не потерплю!
Женский голос, пронзительный, почти истерический.
— Если ты только позволишь… — Мужской голос, много тише, рассудительней.
Может, женщины во время ссор кричат потому, что мужчины угрожают им физической расправой? Во всяком случае, в этом заведении женщины вопили, а мужчины невнятно лепетали. Последние голоса были явно новые, не те, что я слышал, когда шел по коридору.
— Не потерплю, чтобы эта стерва разрушила наш брак. Если бы ты любил меня по-настоящему, ты бы так не поступил. И надо же, выбрал!
— Дело не в ней. Разве ты не понимаешь, вскрылись более глубокие…
— Чушь свинячья! Вали к своей шлюшке. Еще пожалеешь! Поймешь, что совершил самую большую ошибку в жизни.
Мужчина забормотал. Он явно пытался ее успокоить, хотя слов было не различить.
— Не прикасайся ко мне! — заверещала женщина.
Низким, глухим голосом мужчина сказал:
— Запакуй это тоже.
— Оставь меня в покое, подлец!
Потом опять бормотание, слезы; потом хлопнула дверь. У меня к этому моменту сна не было ни в одном глазу, но, когда все затихло, я умудрился снова заснуть. Увы, ненадолго. Теперь голоса доносились уже из-за другой стены, там шла перебранка.
— Ты сам вечно так поступаешь. Значит, эти игры позволительны обоим.
Я подумал: извинись, и все кончится. Скажи: «Прости, я тебя обидел, но это больше не повторится».
Но мужчина сказал:
— Ты бьешь на жалость. На себя посмотри. Сама не знаешь, что мелешь.
А ты скажи: «Я так настрадалась, так изболелась сердцем. Но вместе мы это преодолеем».
Вместо этого женщина сказала:
— Я тебя ненавижу. Боже, как я тебя ненавижу!
Я зажал уши, зажмурился. Темнота придавала комнате некий дополнительный, мерзкий запах: шерсти, пота и не ног даже, а копыт. Наверно, так воняет в аду. Я снова заснул. За ночь все повторилось неоднократно: вопли, обвинения, брань, мольбы, мужчины хватались за телефон, хлопали двери; но к утру — а проснулся я рано, вспомнив, что мне сегодня обедать с королевой, — воцарилась полная тишина.
Итак, снова утро, гостиная, завтрак. Только слова эти приблизительны, ими не опишешь именно этого утра, помещения, еды. Серое небо висело чуть выше труб на соседней крыше; допотопные настенные светильники желто мерцали, отбрасывая размытые тени на обшарпанную обстановку. Сегодня джем подали, но при этом тусклом свете невозможно было определить, из чего он сделан: любая ягода обретала здесь черный цвет.
Та же чайная церемония: стол, заваленный орудиями средневековых алхимиков, едва теплый чай, клеклые тосты.
Еду подавала Бетти. Принесла большую кастрюлю на коричневом пластмассовом подносе. Спросила:
— Хотите компота?
Я сказал «да». И получил в ответ моченый чернослив.
Тихие пары ели аккуратно, и молчание их свидетельствовало разом о голоде, благодарности и послушании. За двумя столами читали газеты, никто не разговаривал. Ночная темнота полнилась криками и бормотанием, руганью и проклятьями, скрипом дверных петель, ревом воды в трубах. Когда я зажигал лампу у изголовья кровати, говорила даже картина на стене: йоркширские долы, бурный ручей, голый каменистый холм, сосны — великолепный пейзаж и на его фоне озлобленная, ссорящаяся пара. Однако здесь, в бледном свете дня, бывшие ночные призраки, обитатели гостиницы «Сандрингем-хаус», молча жевали, читали газеты, и мне снова почудился ад — не католический, с полыхающими кострами, раскаленной лавой и гогочущими чертями, а светский английский ад, с вонью, стыдом и тесными комнатами, где даже воздух — липкий. Звон-лязг-грохот.
По пути к автобусной остановке меня чуть не задавил огромный зеленый «рейнджровер».
Снова она, вечно она, эта женщина с длинным скуластым лицом, которую я всегда встречаю на дорогах Лондона: чудесные волосы, легкий шейный платок, стеганая непромокаемая безрукавка. Одета не по-городскому, ей не терпится вырваться с узких улиц западного Лондона на волю, и на меня она даже не смотрит, ей это не нужно, она и так знает, что в этот миг я ступаю с тротуара на мостовую. И дело не только в том, что она торопится выехать на шоссе, главное — она говорит по телефону, прижимает эту радиоштуковину к уху, а рулит свободной рукой. Она проделывает это со мной уже много лет. Чуть не сбив, чертыхнется себе под нос и катит дальше, по-прежнему болтая по телефону. Вот и сейчас — не сбила конечно, но обрызгала с головы до пят.
Я доехал автобусом до Кингз-роуд, потом пешком по Боуфорт-стрит спустился к реке. Направлялся я в Клапам, но на середине моста Баттерси понял, что взглянуть на покинутое фамильное гнездо нет сил. Собственно, я заранее знал, что в доме никого нет, знал, что я давно здесь чужой. Войти все равно не удастся, придется стоять перед домом и глядеть на старую кирпичную кладку, на бывшие мои окна. Мой Лондон состоял из моего дома и моей семьи, ничего другого у меня тут не было. Теперь я и вовсе непрошеный гость, призрак, без друзей, без близких. Я никогда не жил здесь по-настоящему. Поставил когда-то палатку, но теперь она сложена. Я вовремя смылся.
Я все шагал под дождем, однако кураж прошел. Из любопытства я заглянул только в «Герб рыбника», пропустить кружечку. Запрет на потребление алкоголя по утрам наконец отменили, и лондонские кабачки открыты теперь весь день. Табачный дым, влажный ковер, клейкий запах пролитого пива, бульканье соковыжималки. Возле стойки сидел мужчина с трубкой в зубах и потягивал пиво из огромной кружки. Рядом стоял мальчик в школьной форме: наверно, сын.
Я с радостью вспомнил, как зовут бармена: Дермот. Он заулыбался.
— Давненько вас не было видно.
— Уезжал.
— Хорошо съездили?
— Ссоры и споры.
— Ссоры лучше, чем одиночество, — заметил Дермот.
Вот и все. После года отлучки. В этом ирландском кабачке собрался простой, приветливый народ, но пивное братство еще не дружба. И бармен знал меня не так близко, чтобы задавать новые вопросы. Я заказал полпинты сцеженного «Гиннесса».
— Пап, ну пойдем же… — ныл мальчик и тянул отца прочь от стойки.
— Черт возьми, Кевин! Жди! — прорычал отец. Пьяный и раздраженный, он потягивал пиво понемногу, всячески стараясь показать, что никто и ничто не сдвинет его с места.
Я обратился к мальчику:
— В какую школу ходишь?
— В школу Эммануэля.
— К экзаменам готовишься?
— В следующем году, — вздохнул он.