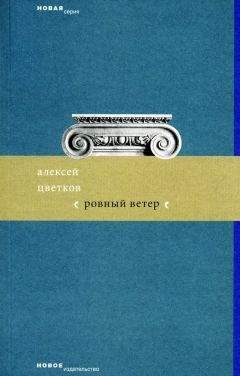Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
А Дуняша у нас, она уж тяжельше всех помирала. И под саму осень. Во вторую голодовку. Это – когда маманька от голоду померла. И Вашку да тятеньку, их уж без гробов когда похоронили. Сил ни у кого не было – гробы-то делать… Так, знашь, махонька осталась, Дуняша. Рост у ней задержалси-остановилси: недокормыш! Токо живот раздулси, а личико – старенько, морщинисто стало. И вот так жа, как за гробиком она ручонку сё тянула да Зиночку оставить ей просила играть, точь-в-точь вот эдак же вот руку-то к нам и тянет. Кто мимо взрослай идёт, сам от голоду падат, а она с лавки рукой-то сё трясёт:
– Ай уж корочки – и то мне нету?
Да опять, рукой-то сё – качат-тянется:
– …Чай уж корочку одну где-небудь – найдите мне!.. Одной-то корочки маненькой – ай уж не найдёте?
Корочку просила… Мальчик маненькай, Паня наш, помирал – молчал. В потолок токо глядел-молчал. Как взрослай… А она – просила. Дуняша… Вот, и оне там – под большэм крестом…
Тятенька тожа – тижало отходил: ноги у нёво как брёвны от водянки сделались. Он и не ложилси. И день сидел, и ночь сидел… А мерещилось ёму – быдто гречневой кашей пахнет.
– Вон, – баит, – как из конторы ихой кашей-то тянет. Это ведь оне гречку нашу варют, едят её тама. Котору из ларя увозили… Нашу гречку едят…
Так одно и то же говорил-сидел.
Вот. Дом-от строил для всех – рази думал, что и гроба деревянного ёму – уж не сколотют? Да…
А Томка позжей отошёл. В лесу. Липову кору грыз, на снегу лежал… В садах во всех людями уж объедены деревьи были – белы стояли как скелеты! Сады. Без коры в Лунёве стояли – деревьи все… Вот, в лес уполз. Томка-то наш. На снегу помер, уж на себя не похожай… Как ёму кокурки-то маманькины снились, чай. Голодному. В смертном-то часе, на снегу… Которы она ёму в карманы сё совала – кокурки да ранетки маманькины…
И, помню, тихо вот больно было. Какея тут куры-петухи? Кошек-то, собак давно всех переели… Тихо… Токо, весной уж, песок под ногами – вот ведь как громко скрипит! Как в чей двор по дорожке-то заходишь… Двери – нараспашку везде, окны – нараспашку. К шабрам-то в горницу ступил, а тама Сашина подружка, девочка на столе положена – лежит. Покойница маненька. Одна, незнай сколь время, в дому лежит… И мать, что ль, ей руки-то на груде сложила, ай кто? Взрослых-то, по дому видать, давно уж тама нет. Один сквозняк пустой над ней, девчоночкой, ходит. Да… Ветер… Ставенка плохая скрипит, качатся… Давно уж, видать, девчоночка-то – одна. И день лежит, и ночь – одна в дому на столе лежит…
Могилы тогда общи были, открыты: их и не зарывали. Копать да зарывать, знашь, некому… А так уж, клали да клали, покойников. Землёй прикидывали чуток.
Иван у нас в мазанке помер – один в лесу, в сторожке, помирать боялси: к нам пришёл. Дарью после детей уж похоронил, да с могилков к нам и пришёл. Как старай старик стал… И не калякал, а так – на лавку сразу лёг. Сё лежал… И Шуроньку нашу – я туда уложил: в могилу общу.
Надёнка-то баит:
– Шуроньку что-то давно не видать. Сходил ба, Василий, через огород-от. Я уж до бани к ней сама не дойду: голова больно кружится…
И сидит, знашь, Шуронька на полу, в пальте в Вашкиным в старым. Чорно пальто Вашкино надела – зябла, видать. Кожа да кости… Сидит, одна уж в бане-то осталась. А руки – в тазу с водой, тряпку держут. Мыть, что ль, полы хотела-собралась? Незнай… Согнута застыла. Простенька-то. Полусиротка… Так её на могилки и нёс, через всё Лунёво, как робёнка – сидьмя. Солнышко, народу нету. Ноги-то уж мое отекли. Нёсу…
И опять – вот ведь как песок-от под стопой скрипит-хрустит! На всё Лунёво пустое – скрип громкай больно какой-то: уши не терпют… Могила большая открыта – как ров, без малого полнёхонька. А ведь Ивана клали – на дно почти-что. Во весь рост Иван-от наш лёг… И сидьмя-набок, в пальте в Вашкиным в чорным, я её и положил, Шуроньку. Вот те и простенька… Землёй маненько притрусил… Да отдыхал там, стоял сё.
Надёнка-то потом с кровати спрашиват:
– Ты что жа как долго через огород-от шёл? Я уж думала, ты не вернёсси.
– Шуроньку, – баю, – хоронил…
И то что Надёнка-то послала! А то – незнай уж, сколь ба время она там, в бане, сидела, над тазом-то. Шуронька… С могилков пришёл – обезножил ведь я. Ноги-то – набрякли больно. Отнялись…
И обезноженнай я уж был, помирал-сидел, когда чуваш-то приехал, в окошко стукнул. Надёнка под одеялом с детями лежит: с Саней маненьким – да с Сашенькой нашей. Двое токо, детей наших, осталось, оне уж не встают, не плачут. Помирам все – он и всходит…
А это ведь тятенька сколь уж годов назад чувашу-то картошки семенной четыре мешка давал. Больно чуваш-то просил! Сорт наш хорошай себе посадить хотел. Тятенька и поубещалси:
– Чово жа! Заедешь, дам.
И прям бедно, бедно одетай – чуваш-то за картошкой тогда подъехал! Да трахомнай… На телеге-то плохонькой к нам, к дому, подъехал, а тятенька ёму и сказал:
– Ладно! – баит. – Ты уж, Василь Василич, деньги-то – себе оставь-спрячь: не нады… Так вези, да сажай. Потом картошкой, може, когда вернёшь-привезёшь. И с маненького урожаю ты – не отдавай. Шибко-то не торопись. А уж дождёсси, как больно много её, картошки, уродится – тогда, може, и вернёшь-привезёшь. Ежжяй а ты с Богом!
Чуваш-то, радёхонькай, и уехал. И мы уж думать про нёво давно забыли. А тут – видишь как? – урожай больно большой на картошку-то в чувашах и случилси! Вот он нам её и привёз вёсной – воз цельнай, рогожей накрытай! От зимы она у нёво, знашь, осталась. Он и вспомнил, чуваш… А картофелины – все с ладонь, долги-розовы: как поросяты, знашь.
И чуваш-то в мазанке на лавку сел. Да и сидит. Он молчит – и мы молчим: кто такой сидит-пришёл? И не знам… Спросить – силы-голосу у нас уж нету… А он глядит токо, да глаза токо трахомны трёт. Глаза-то больнэя – мокнут знашь…
Ну, посидел, разгляделси. Сам, без спросу, вёдро молчком нашёл, да и стал картошку в мазанку заносить… На тёрке нам её, сырую, тёр – давал. И детям, и Надёнке. И мне потом поднёс… А там уж, под вечер, и варёной маненько дал. Плиту затопил, да в чугунке сварил…
И в ночь-то не уехал, а сидел сё – картошку на семена в вёдры кромсал-резал. Глаза-то больнэя трёт. Да картошку режет-сидит… И до утра на половике окыл двери поспал маненько – другем половиком укрылси. А развиднелось, пошёл лопату искать.
Вот, чуваш нам полвоза её и посадил! Уж не вскапывал – а так: лопатой ковырнёт – да воткнёт. Засеил!
Я мол, и то что тятенька денег-то с нёво тогда не взял…
– Уж с большого урожаю, – сказал, – може когда вернёшь…
Да. …А он ведь, чуваш-то, Василий – тожа, ищё ведь разок приежжял! Недели через две, что ль? Мы уж тут выправились маненько, с картошки… Мешок крахмалу завёз, мешок яблоков сушёных, да сала в тряпице солёного, ище зимнего, фунтов пять некак. Вот эдакой кусок-от… Ну – что-то торопилси больно: уехал сразу – и не покалякал. И не присел что-то. Торопилси…
И вот с чово мы поднялись. Кисель яблошнай из крахмала варили, да похлёбку сальцем заправляли, растягывали. Силы-то и появились маненько. И ноги мое, знашь, прошли…
И из Ивановой да Вашкиной семьи никого уж не осталось. А после Томки покойного – Коля токо один, их середняй, кой-как уцелел. Вылитай, знашь, Томка махонькай – точь-в-точь… Нютонька уж в одиночку ёво в анбаре берегла. Она уж ёво, последнего, к свому телу прижатого держала. Шалью примотала – и не выпускала: тепло ёму берегла. Чтоб тепло, знашь, зря не уходило ба – на нёво токо дышала, и в сторону дохнуть – боялась… Глаза-то жёлты с нёво уж не сводила – грела… Не в себе маненько Нютонька-то была: глаза – зверины да страшны уж стали: горели прям что-то… А тут мы с Надёнкой им киселя-картошки и принесли: дошли до анбара вдвоём кой-как, друг за дружку держались…
И так она ёво, Колю, сберегла: дышала… Ну – на Курской дуге он в войну, раскрасавец, лёг. Смертию храбрых, знашь. А ведь – Томка и Томка был! Вылитай. В школе училси – больно хорошо. Старалси больно…
Нютонька-то, после похоронки Колиной, как токо её получила – так и уснула. Сразу. Вниз лицом в анбаре на похоронку приткнулась: уснула… Не встала. Уж не проснулась. Я мол, она чай и не захотела – голову-то подымать, глаза свое жёлты открывать. Оно уж и не для кого, их открывать…
И изо всего роду Лунёвского – вот: мы токо живэя остались! Я с Надёнкой – да наши двое: Саня старшай – да Сашенька маненька… И у Сани нашего детей так и не было: на неродихе женилси, да старше себя взял, с финской-то хворай-раненай пришёл, не пожил… Лунёвых-то, считай, на свете уж и нет. Да.
Уж и фамильи такой – Лунёвы – нашей, считай, что нету…
И вот одне мы токо чудом уцелели!.. Я мол, може – то, что зимой из нас меньше тепла, что ль, уходило? Еды нам, наверно, меньше надо было, что ль? Мазанка-то – потепле всех была… Мы и протянули! Вот – жребий.
Да чуваш-то, Василь Василич, как раз подоспел. Вспомнил всё жа – подоспел. А маненько пораньше, осенью если ба он её, картошку, нам повёз – он ба ведь и не доехал. Не доехал ба, не довёз. Ище кой-какой народ осенью живой оставалси-бродил – по дороге с возу всё расхватали ба! Дикай уж с голоду – народ-от по дорогам-по улицам тогда бродил… Чай и лошадёнку-то на ходу ба искусали. Искусали-изрезали ба… А тут уж – тихо. Тихо-пусто кругом было. Мало кто по домам-то чуть живой сидел-лежал…