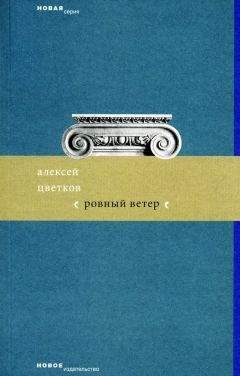Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
А Вахорка – не больно: сызнова – за пищалку свою. Уж мы все в роду, и дети наши, так с пелёнков учёны: чужого в руки – николи не брать. И ище пра-дедушка Фанасий наш с печки, бывало, старенькай говорил:
– Со слезами будут уговаривать, плакать будут – давать: «Чай уж возьми добра нашего задарма!» А ты плачь – да не бери! Плачь, да не бери дармового! …Свяжисси – не рад будешь.
Ну, Вахорка на револьверт чужой, знашь, и не глядит. Сызнова пищит-играт.
– Да ты, наверно, глупай. Голова-то у тебя – не роботат! – уж нарошно Вахорку нашего приежжий-то злит-раздразниват. – Не помнишь, где зерно!
А он:
– …У Жучки под хвостом! – баит, да опять отворачиватся-пищит.
Ну, тот с досады-то и плюнул:
– Айдате! Дома у них нет ничово. Эт уж где-небудь в другем месте спрятано. Ну, мы выследим, сё одно отымем! А за укрывательство – судом расстрелям! – баит.
Да и провалились всем гамузом. Со двора-то с нашего.
Мы, ни живы ни мёртвы, вороты скорей заперли:
– …Вахорк! Да зачем жа ты им открылси? А если ба оне догадались-дозеврились?
Собака, знашь, наша – Жучка на тем месте у ворот и сидела. Вот Вахорка-то и твердил. Утямилси: у Жучки под хвостом… Чай, потом уж – смеялись. После время.
И оставили нам на пять семей одну-разъедину токо коровёнку – как на один, посчитали, дом. А и на ту уж корму-то нету: всё сено отняли. В сарае – былки единой, и той не найдёшь. Не найдёшь-не подцепишь. И ползимы мы кой-как перебились: корову нашу – под нож. Да пошеничку выкапывали – с лебедой мешали-тёрли, с древесной корой. Ну что там её, пошеницы, – сто двенадцать килограмм по нынешнему, на эдаку ораву! Да мужики-то – больно рослы, знашь, здоровы. Нас ведь и не накормишь…
Вот, золотишко всё бабье когда из дому и разлетелось! Дарья в Сызран ездила. На одне чье-нибудь серёжки – кусок сала привезёт. А на колечко какое чьё обручально – буханку хлеба выменят.
Ну, кто-то ёво щас, поди-кось, носит, золотишко-то лунёвско. Каке-то бабы чужэя – на пальцы да в уши надёвают, чай. Перед зеркалом-то стоят, крутются в нём…
А у Надёнки осталси один токо перстенёк. Оловяннай, простенькай. Которай я ей ище в парнишках, не больно взрослай, на ярманке купил, с синеньким-то глазком… Оловяннай-копеешнай – никому уж не нужнай. Ёво один, оловяннай, не проешь и не продашь… Он токо осталси. Да.
И хорошо, маманька Овдокея, словечка никому не сказала, а сама узолки маненьки с просом, по фунту – по два, втихомолку рассовала-успела! То в стары валенки, то в сапоги рваны, которы в мазанке лежат, то в карманы-в польты, то в подкладки какея. Их и набралось, маненьких-то узолков потом, пуда три никак!.. Глядишь, бывало – в дому шаром покати! А маманька – сё одно: кажному просяной каши ложки по две и положит!
…Помирать-то мы, Лунёвы, уж потом, позжее стали. Ну, эту зиму, чуть живэя, а кой-как – иззимовали…
И вот ведь чудо-то было! Как галчины затылки в Самаре уж в полну свою силу взошли – зачили по всёму, знашь, Лунёву собаки при полной луне на снегу воем выть! По всем дворам кряду. Ночь воют – день воют. Другой день, да третий… Без перерыву! И люди знать-не знали, а уж собаки по дворам всё загодя и учуяли. Как раз вперёд за две недели!
И день – воют, и ночь – воют. Волосы дыбом, знашь, встают! Маманька наша Овдокея тогда тятеньке и сказала, в большом-то дому, помню:
– Ну – будет дело, Иван… Ночной собачий вой – к покойнику. А дневной собачий вой – уж на вечнай всем покой…
Миканор Иваныч, брат её, придёт. И вот оне втроём до свету сё калякают, потихоньку в потёмках сидят. Карасину уж не было – лампу-то не вздували… И собаки токо по всёму Лунёву из краю в край завывают – спасу никакого нет. Да луна полна во все окны поверх занавесков бьёт-слепит. Светит, по глазам-то бьёт, знашь… А оне, старики, так и сидят: сё калякают… И наша Жучка со двора тогда вот пропала что-то – смерть что ль где свою нашла? Пропала что-то. Да…
И раз маманька Овдокея с утра и говорит:
– На могилки нынче все пойдём на наши. Надёвайте всё, что есть, наилучше, потепле: мороз. Давайте сходим, и со всеми детями. Давайте-давайте… А то на родетельску субботу на могилках наших не были – грех! Все нынче пойдём, и всех покойников с робяткими всеми попроведам. Помолимси.
А тятенька в зиму прихворнул маненько. Ну, глядим – и он с печки слазит:
– Нады! – баит. – Давно уж не были. Не хорошо.
Ладно. Всех нас маманька переполошила-сгрудила, за вороты вывела – сама пол-улицы не прошла, да схватилась:
– Э-э! Ступайте-ка одне потихоньку! Я дверь, кажись, кой-как притворила: ладом не заперла! Дом-от выстудим…
Шуронька теперь кинулась:
– Чай, я поскорей сбегыю! Щас же хорошень затворю!
А она, маманька, ище ногой-то – топнула-рассердилась:
– Сказала – ступайте! Догоню.
И всё село наскрозь мы прошли, и от тихого ходу с детями перемёрзли. Что такое? Её сё нету, и нету, и опять нету. Ну, на взгорке, уж на могилки заходить, стоим-ждём, где буквы как раз – «Мы были как вы – вы будете как мы». В воротах, считай. И тятенька с нами, бледнай-хворай, ждёт. Глядим – бежит маманька. Да что-то шибко больно. Турится. И – сердита.
Надёнка-то глянула:
– Мамань! Ты что какая чорна как уголь? Плохо, что ль, с сердцем тебе, ай как? Ты уж не бегла ба… – жалет её, знашь, да на руках Саню грудного в удеялке держит-качат.
А маманька скрозь нас скрозь всех прошла молчком и – дальше. Шагу, знашь, не сбавила. И токо через спину всем нам баит-шагат:
– Что встали-застыли, как мёртвы? Айдате.
Нютонька-то домой просится:
– Давайте-ка вернёмси! А то я и шаль накрывную тёплу дома забыла. Кашемирову… Холодно как! Мы уж и так щёки изморозили! Дети-то захворают – домой все хотят! Да собачищи больно страшно воют, тоску наводют. Я уж и могилков-то боюсь!
А маманька Овдокея вперёд всех, прямая, знай шагат. Да и ругатся-сердится:
– Айдате, раз пошли! А то путе нам уж – не будет. Путе в жизни…
Ну, мы, мужики, токо, знай: молчим. Пустое-то не городим. И Дарья, помню: крепко-крепко молчит! Как в рот воды набрала… Ну и все – за маманькой, с детями, инда не поспевам: бежит маманька уж далёко! Меж крестов. А тут слышим – что такое? От избы от крайней, в ней Фёдор-пастух ище жил:
– Пожар! Пожар! Вон как горит кто-то! Страшнай какой – пожар-от! До небу!
Кричат, знашь, на околице, во дворах промеж собой.
И Надёнка оглядыватся, отстаёт. Да Иван не йдёт некак что-то. Васеньку большенького на руках держит. Так в воротах с нём и стоит.
А там уж, по улице-то по всей, переполох:
– Пожар! – кричат.
– Эх, вроде – рядом с нами дым сильнай… – Иван-от нам из ворот рукой махат. – Тятьк! Погляди-кось…
Ну, тут уж и Надёнка – в крик:
– Батюшки-светы! Мы, никак, горим…
И тятенька с тропы пригляделси:
– Стой, Овдокея! – баит. – Стой.
Мы и побегли с Иваном к дому – какея тут могилки! Детей с рук на снег поставили – побегли. И Вашка с Томкой за нами топыют-не отстают.
Ну, оно – беги-не беги: дом-от – на другем конце… Подбегли – народ стоит, со всех сторон, знашь. Толпой. И тихо-о-о! Все обмерли быдто, стоят. Огонь токо гудит – в небо весь целиком летит: вверх, крыльями красными, бьётся-рвётся! Ох…
День морознай, с ветерком. А он, дом-от наш, пятистеннай, шатровай, как свечка, горит-полыхат. И треск, знашь, сильнай… Пламя-то всё – столбом летит-гудит… Куды там: к нёму, к дому, и не подойдёшь. Не подойдёшь-не подступисси… Жаром лицо щас жа схватыват. Глаза не терпют, как жгёт.
Томка, правды, сё в горячках-то кидалси. Вынести, что ль, чово хотел-норовил? Уж люди всемером держали, да Иван с Вашкой. Томку нашего. И то что сладили. Сгорел ба! Живой не вышел ба…
А бабёнки прибегли с маманькой-то Овдокеей – там и потолок упал-рухнул. Стропилы уж рассыпались-завалились. Вот тебе и дом…
И Нютонька теперь в голос плачет-причитат:
– Да что вы все стоите как мёртвы?! Ведры, ведры-ти в мазанке! Что чай вы их не взяли, не залили?
А рази ёво ведрыми, такой пожар, после время зальёшь? Дом-от, со всех сторон быдто, занялси.
И Шуронька – больно плакала. Дарья с Надёнкой её, Шуроньку, уж под руки увели – к забору: как токо она убивалась! В чужэм-то дому, знашь, в мачехиным досыта нажилась. Ох, уж убивалась…
Я вот что-то и не помню: тятенька-то когда подошёл-встал? Сколь вспоминаю, а – не помню. Вот, как он подошёл да перед пожаром-то как встал-стоял?.. И как маманька Овдокея вперёд всех вышла, быдто щас вижу: руки-то перед огнём на груде скрестила – не сморгнула, знашь! А про тятеньку – отшибло быдто: и не помню что-то. Незнай…
И хорошо ище, ветер от мазанки как раз был: у мазанки и крыша тесова не подпалилась. Уцелела…
Ну: сели мы в мазанке этой на лавки. Миканор Иваныч на пожар-то подошёл:
– Айдате все к нам, – баит, – ночевать.
Тятенька перед окошком инда восковой, застыл: не слышит. Вой собачий токо один слушат, как ёво не касатся. И дети на холодной печке молчат-сидят, прижались.
А маманька Овдокея – и не плачет, знашь!