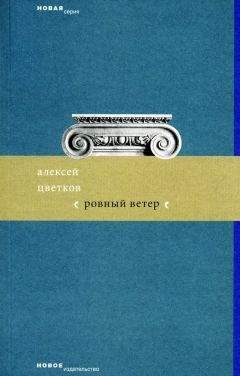Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
– Щас, Миканор, пойдём, – баит. – Токо сперва уж давайте решим: кому где жить теперя. Отец! Давай решай.
Тятенька от окошка-то и не повернулси: зови-не зови.
Мы с Иваном, знашь, переглядывамси – старши.
– …Жребий нады кидать! – баим. – Жребий.
И Миканор Иваныч, маманькин-то брат родной, сказал:
– Жребий, знамо.
Ну, и стали жребий из спичков тянуть. Большая спичка – мазанка. Поменьше – анбар каменнай холоднай на задах. Третья спичка – баня. А четвёрта – сторожка маненька, на омшаннике котора, в лесу.
Иван первай тянул. Им, Ивановой семье, и выпало: в сторожку с Дарьей, в лес, идти. Я, второй, из маманькиной-то руки тяну-потяну – да большую, лучше всех, и вытянул: мазанку, знашь! Тут оно – и печка большая, и ухожена она – мазанка… Вашке с Шуронькой баня на задах досталась. А Томке да Нютоньке – уж анбар каменнай-холоднай.
– Эх!!! – маманька-то теперь вскочила. – Не так! А нады – вот как. Мы, старики, в мазанке. А с собой – Томку, как младшего, оставлям! Жребий уж теперь – не считатся!
А Миканор-то Иваныч как глянул на неё, на сёстру-то свою, из-под бровей, знашь. Да пальцем ей, помню, и погрозил:
– Овдокея-а-а!.. Не мудруй.
Да и осёк её, маманьку нашу:
– Не мудруй.
Она и присела. А то – больно ей не хотелось. Чтоб мазанка-то нам с Надёнкой отошла.
Она, знашь, маманька, к тятеньке было, опять:
– Отец, да ты что теперь молчишь? Не скажешь, как добро-то нам после пожару делить? Так что ль, ай не так? Я мол, не так нады, по-другому!
А тятенька токо:
– …Всяко добро – прах.
Так от окошка-то сказал:
– Всяко добро – прах.
И не повернулси…
Тут уж Надёнка, правды, баит:
– Чай, с нами, мамань, с тятенькой живите! Сё одно она ваша, мазанка. В ней – вы хозявы. Куды вам, в анбар что ль? Куды вам – в баню, куды – в сторожку? Тама чай и не прилажено. А покудова все по своем местам обустроются, да печку в анбаре покудова сладют – уж в мазанке вместе с детями нетрог все тута, в тепле, и живут гуртом.
Ну. И успокоила всех маненько, знашь. Миканор Иваныч Надёнке-то и сказал тогда:
– Вот. Правильно.
И Томка наш сказал:
– Жребий – он есть: жребий.
И Вашка:
– Ладно, – баит. – Проживём. А там – чай уж выстроимси как-нибудь!
А уж Иван – тожа: после всех под конец сказал:
– Так – так так. Перетакывать не будем.
Тятенька один – молчал токо…
И на другой день, под собачий-то вой кромешнай, разделили мы всё старьё, которо в мазанке сроду складывали-кидали. Польты выношенны, шапки облезлы, подстилки стары. Половики страшны да удеялки, которы свалялись. Да столы-стульи-табуретки сломаны в углу свалены были – их поделили. Ну и носили старьё-то каждай к себе: Иван, Вашка да Томка. Носили по снегу – сё мимо пустого места. Мимо углей чорных, да мимо золы… Мимо головяшков, знашь…
Я уж им и не подмогал. Скорей печь обгорелу во дворе разбирать стал. Томке на кирпичи. Лом взял да кладку зачил разбивать. Больно страшна да чорна она, печь-то наша, перед глазами, прям под небом, одна стоит… Страшна-чорна… Из старых ведь наших кирпичей – печку-то в анбаре в Томкиным все вместе клали!
И уж сроду на тем месте на горелом – не сажали. Инда ноги, знашь, не йдут – вскапывать ёво, место избяное. Вскапывать, сажать… Да. Так – бурьян один тама поднялси-стоит. Бурьян вырос, понизу переплёлси весь, как войлок. Как войлок, сбилси – как колтун…
И вот мы, Лунёвы, уж не зажитошны, а бедней бедных сразу мы сделались, и уж голей гороху оказались: беднота!
…Самы бедны изо всех сразу и стали.
А собаки, знашь, сё воют, как с ума по дворам-то посходили! Воют, надсаживаются… Ну и раз, под утром, по всему по Лунёву к собачьему-то вою уж людской – человечий прибавилси. Да всё и перекрыл. Инда восемь отрядов из Самары перед утром, до свету, на нас и наслали!
Никто ведь и не слыхал. Какея тут городки?.. Спали. А уж оцеплено Лунёво-то было…
По всем хорошим домам с винтовкими, с четырёх концов, потемну оне шли! Двести шоснадцать мужиков в Харитонову балку по списку отвели – тут жа. До свету их и расстреляли. Ище не больно развиднелось – расстреляли. Из домов сонных поднимали, руки сразу – на верёвку, на узол. В исподнем на мороз взашей вытолкали. Босиком… Как кулацкай элемент. Бумагу такую самарску бегом в балке им зачитали.
Да. Уж в городки-то, под землю, никто не ушёл… Спали все, знашь.
И Исавых семерых мужиков, у которых в гусары сё парней-то брали, под пули поставили-уложили… Вот токо ровня мой Иван Исав из них один живой и осталси. А что? На охоту ушёл, да из лесу припозднилси. На хуторе ночевал. А день-то опять зря проходил-устал – ногу больно натёр. Да опять к леснику возвернулси. Пустой домой сё не шёл-не хотел. А нога-то на хуторе и разболелась…
И Миканор Иваныча нашего, Чибирёва, тама ведь расстреляли – со всеми. Бают, первого. Клавка-то Косая глянула токо на нёво, убитого, да сразу и ушла. Другех уж смертей ждать не стала. Да в конторе над столом и повесилась.
Чай, оне, начальство, скрывали сё – вроде как от приступа сердешного её хоронили. И памятник ей высокай, со звездой железной, поставили. И она у них до сей поры считатся – герой ихняй! А уборщица-то конторска сё одно уж видала. И как из петли её сымали, подтирала под ней… Да.
А в Миканор Иваныча, бают, в мёртвого – и то, сверху, начальник-то бритай самарскай без перерыву из револьверту свово стрелял. Покудова барабан не опорожнилси, не опросталси весь. И уж барабан-от, сказывают, пустой, а он сё над Миканор Иванычем на курок-то – жмёт да жмёт, тужится: уж и не соображат… Боялись оне тама, бают, кабы он слово людям не сказал, Миканор Иваныч. Боялись что-то больно…
Вот – не сказал.
Знать, уж без толку было…
Токо, бают, глядел. Напрямки вверх, связаннай, глядел… И мёртвай-то – прямо глядел, не вскось… И Клавка тут сразу – развернулась-ушла. От мёртвого. Эт уж за её спиной – в остальных из винтовков сё стреляли, да ище по одному прикладами добивали…
Которы про Клавку бают, из домов-то крайних потихоньку видали: качалась вроде – в контору-то из балки одна шла. В фуфайке да в шале через поле шла – за сердце, бают, держалась. Уж на стрельбу-то – не оборачивалась… Да на красной тряпке и повесилась-удавилась. Какой-то краснай сатин, что ль, у них там, в конторе, лежал? Вот вроде у матерьи какой-то она край длиннай оторвала – да верёвку-то себе красну на горло и свила. Так люди-то бают…
А их похоронить – и то из балки не отдали. Родным – не отдали. Так оне до сей поры гуртом зарыты, без гробов – в земле одной, вместе и лежат. И глаза им, знашь, не закрыли… В земле. Двести шоснадцать – мужиков. И глаза у них в земле – открыты…
И нам ба, Лунёвым, там – всем мужикам лежать! В балке. Да. В Харитоновой. Лежать ба. Если б дом-от не сгорел… А оне, видишь: по хорошим домам с винтовкими шли…
Ну: и полсела тут жа на подводы посажали, токо-токо развиднелось… С детями, стариками, с бабёнкими. У кого дома получше были… А брать – вот что с собой в руках унесёшь: больше не полагатся.
В Сибирь да в киргизы на смерть повезли. Там на снег голай кинули – в глуши в самой, где жилья живого на сто вёрст, бают, нету… Вот и живи с детями на снегу, как хошь: по-волчьему…
Иван-то Исав на другой день из лесу пришёл, а тут уж – никакой родни. И ни семьи, ни жоны. Этих – расстреляли, тех – в киргизы угнали-увезли. Оне тама все и перемёрли. Матрёна-то ёво, она ведь слабенька-светленька была. Мало, наверно, и мучилась. Светленька-слабенька. Как синичка…
Вот он, Иван, тогда из лесу пришёл, да сразу и скрылси. И то что уехал! Скрывалси да скиталси потом сколь годов. Иван Исав. Без угла, без пачпорта. То к грузчикам где прибъётся, а то нужники чистить подрядится. Скрывалси…
А оттудова ведь никто, считай, не возвернулси! Из киргизов. Перемёрли подчистую все почти что… И вот от чово мы ищё спаслись… Пожаром, знашь, опять спаслись…
А не пошеница если ба зарыта, не семь ба пудов – мы ба и перву зиму не пережили! Так-то, знашь, с голоду двоех девчоночков своех уж во вторую зиму токо похоронили-зарыли. Нине – третий доходил. А Зиночке года не было. И вот Зиночка-то была – беленька в кудерках, да как кукла – пригоженька больно. И в гробике-то лежала махонька – как игрушешна-фарфорова.
Гробик со двора выносим – март как раз холоднай был. Марток, надёвай трое порток… А Дуняша четырёхлетня голодна за гробиком-то бежит да ручонку сё тянет:
– Зачем вы её, как Ниночку нашу, в яму закопать хотите? Чай, оставьте её мне!.. Отдайте лучше мне, я с ней играть буду. А то у меня кукла уж стара-чумаза. Не уносите!.. – просит.
Просит, да за полы дёргат, то Надёнку, а то меня:
– Не нады – не зарывайте. Мне играть оставьте… Я её, Зиночку, беречь буду. Я не запачкыю!..
А Вахорка Вашкин к лету уж в бане-то помер – про Жучку-то говорил, на пищалке играл… Вот, все младенчики наши, Лунёвы, под однем крестом большим вместе и лежат. Томкины – Лушенька семилетня, Коля-мальчик, года три ёму некак было. Ивановы дети все, уж большеньки – Павел, да Ваня, да Васенька. И Вашкины трое: Яшенька – да Вахорка с Марусенькой. Тама все…