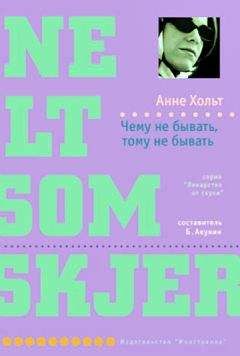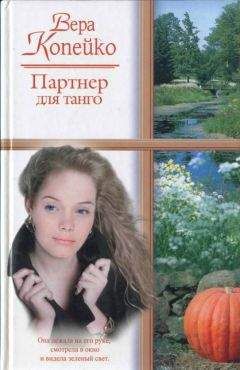Джоди Пиколт - Роковое совпадение
Он тянет скелет по подъездной дороге, как напившегося приятеля. Кости волочатся по гравию, и он использует длинную фалангу пальца, чтобы нажать на кнопку звонка. Через несколько мгновений Таня открывает дверь.
Она все еще в сестринской форме, косички собраны сзади в хвост.
— Ладно, — говорит она, глядя на Квентина со скелетом. — Я должна это услышать.
Он одной рукой держит скелет за череп, остальные части болтаются. Квентин указывает на плечо.
— Лопатка, — повторяет он по памяти. — Седалищная кость. Подвздошная кость. Верхняя челюсть, нижняя челюсть, малоберцовая кость, кубовидная кость. — Каждую он пометил черным нестираемым маркером.
Таня начинает закрывать дверь:
— Квентин, ты проиграл.
— Нет! — Он просовывает руку скелета в дверь. — Не закрывай! — Квентин делает глубокий вдох и продолжает: — Я купил его для тебя. Хотел показать… что не забыл, чему ты меня научила.
Она склоняет голову к плечу. Боже мой, как он раньше любил эту ее манеру! Любил, когда она массировала ему шею, если затекали мышцы. Он смотрит на женщину, которую уже давно совсем не знает, и думает, что вот так и должен выглядеть дом.
Его пальцы скользят по костям, названия которых он вспомнить не смог, по широким белым ребрам, по коленям и лодыжкам. Таня с улыбкой берет Квентина за руку.
— Тебе еще многому следует научиться, — говорит она и тянет его за собой в дом.
В ту ночь мне снится, что я в суде и сижу рядом с Фишером, когда на затылке у меня начинают шевелиться волосы. Воздух становится тяжелее, дышать сложнее, и за моей спиной, как мыши по гладкому полу, пробегает шепот.
— Всем встать! — говорит секретарь, и я намереваюсь подняться, но у моей головы раздается холодный щелчок пистолета, в мой мозг врывается пуля, и я падаю, падаю…
Я просыпаюсь от шума. Несомненно, это бренчание и грохот жестяных банок. Барсуки? Но сейчас январь.
Во фланелевой пижаме я на цыпочках спускаюсь вниз. Голые ноги засовываю в сапоги, руки в куртку. На всякий случай хватаю каминную кочергу и выхожу на улицу.
Снег приглушает мои шаги, когда я иду к гаражу. Я приближаюсь и вижу черную кучу, по размерам намного больше барсука. Мужчина роется в мусорном баке. И пока я не ударяю по баку кочергой, как в гонг, он даже не поднимает головы. В ушах у него, похоже, звенит.
Он одет как вор-домушник, и моей первой, слишком милосердной мыслью было: «Наверное, ему холодно». Его руки в резиновых перчатках, скользких от содержимого моего мусорного бака. «Как в презервативах», — думаю я. Он не хочет подхватить страшное заболевание, и кто знает, что можно подхватить, когда разглядываешь обломки чужой жизни?
— Что, черт побери, вы здесь делаете? — спрашиваю я.
На его лице читается борьба. Потом он достает из кармана диктофон.
— Вы не хотите сделать заявление?
— Вы репортер? Вы роетесь в моем мусоре, и вы репортер? — Я наступаю на него. — Что вы надеетесь найти? Что вы еще хотите узнать о моей жизни?
Теперь я замечаю, насколько он молод, — Натаниэль лет через пятнадцать. Он дрожит, и я не знаю, из-за холода или из-за того, что с глазу на глаз встретился с таким злом, как я.
— Вашим читателям известно, что у меня на прошлой неделе были месячные? Что я доела пачку медовых хлопьев? Что мне слишком много рекламного хлама приходит по почте?
Я хватаю диктофон и нажимаю кнопку «запись».
— Хотите, чтобы я сделала заявление? Будет вам заявление. Спросите читателей, смогут ли они отчитаться за каждые пять минут своей жизни, за каждую мысль в своей голове и гордиться этим? Спросите, разве они никогда не переходили дорогу на красный? Никогда не ехали шестьдесят два километра в час там, где стоит ограничение в шестьдесят? Никогда не давили на газ, когда видели желтый? И если найдете хотя бы одного несчастного, который никогда не совершал ошибок, то у этого человека появится право меня судить. Но только предупредите его, что он такой же человек, как и я. Что завтра его мир перевернется с ног на голову и он увидит, что способен на поступки, которые не верил, что может когда-либо совершить. — Я отворачиваюсь, мой голос ломается. — Скажите ему… он мог бы оказаться на моем месте.
Потом я швыряю диктофон так далеко и сильно, как только могу, в высокий снежный сугроб. Иду в дом, запираю за собой дверь, прислоняюсь к ней и перевожу дыхание.
Что бы я ни делала, отца Шишинского не воскресишь. Ничто не сможет стереть из моей памяти совершенную ошибку. Ни одно тюремное наказание не может сравниться с тем, как казню себя я, или повернуть время вспять, или запретить мне думать, что Артур Гвинн заслужил смерть так же сильно, как его брат — жизнь.
Я медленно двигалась в ожидании, пока опустится неизбежный топор, я слушала показания свидетелей, как будто речь шла о судьбе кого-то постороннего. Но сейчас я чувствую, что очнулась. Будущее может разворачиваться нестираемыми штрихами, но это не означает, что нам нужно снова и снова читать одну и ту же строчку. Ведь именно от такой судьбы я Натаниэля и оберегала… Тогда почему я примеряю ее на себя?
Как благословение, начинается снегопад.
Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь.
Птенчик похож на крошечного динозавра и слишком маленький, чтобы обрасти перышками или знать, как открыть глазки. Он лежал на земле рядом с веткой в форме латинской буквы «V» и желудем с желтой шапочкой. Его клювик изогнут, крошечное крылышко болтается. Я вижу очертания его сердечка.
— Все хорошо.
Я сажусь на землю, чтобы выглядеть не таким страшным. Но птенец просто лежит на боку, и у него раздутое, как воздушный шар, брюшко.
Когда я поднял голову, то увидел в гнезде его братьев и сестер.
Одним пальцем я толкаю птенца себе на ладонь.
— Мама!
— Что случилось? Ой, Натаниэль! — Она щелкает языком, хватает меня за запястье и сталкивает птенца на землю. — Не поднимай!
— Но… но…
Всем видно, какой он больной. Нужно помогать больным людям и тем, кто сам не может о себе позаботиться. Отец Глен постоянно это повторяет. Почему же не помочь птицам?
— Если человек возьмет птенчика в руки, мама птенчика больше его не примет. — И только она это произнесла, как в небе появился дрозд и пролетел прямо над птенцом. — Теперь ты будешь это знать, — говорит мама.