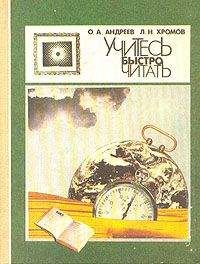Джанет Фитч - Белый олеандр
Ивонна вскрикнула во сне, подушка свалилась на пол. Я подняла ее, положила обратно. Подушка была пропитана потом. По ночам Ивонна так сильно потела, что иногда приходилось помогать ей менять простыни. Я смахнула у нее со щек влажные пряди. Она была горячая и мокрая, как только что вынутое из машины белье. Следующая песня ночной гитары вдруг показалась знакомой — «Ты хочешь стать рок-н-ролльной звездой».
— Астрид, — прошептала Ивонна.
— Слышишь? — сказала я. — Кто-то играет на гитаре.
— Мне снился ужасный сон, — пробормотала она. — Мои вещи украли, забрали лошадь.
Бумажная лошадь, белая, в сбруе из золотой фольги, в красной шелковой попоне с бахромой, стояла на комоде, подняв переднюю ногу. Круглый шейный изгиб повторял линию удивленных бровей.
— Она здесь. — Я приложила ладонь ко лбу, к щеке Ивонны. Холод на горячей коже. Я вспомнила — мать всегда так делала, когда у меня был жар, и вдруг ясно почувствовала прикосновение ее прохладных рук.
Ивонна подняла голову, проверяя, пасется ли в лунном свете бумажная лошадь, и опять откинулась на подушку.
— Лучше бы все уже кончилось.
Рина сказала бы — «чем скорее, тем лучше». Несколько месяцев назад я бы с ней согласилась, но теперь думала — какая разница? Когда ребенок родится и его заберут, всегда останется еще что-нибудь, чего можно лишиться, — бойфренд, дом, работа, здоровье, другие дети, дни и ночи, накатывающие друг на друга, как океанские волны, монотонные, неизменные. Зачем торопить несчастья?
Сейчас я смотрела, как она сидит на постели, скрестив ноги, и шепчет своему круглому животу, каким замечательным может быть мир — в нем есть лошади и дни рождения, мороженое и белые кошки. Даже если Ивонна не будет кататься с ребенком на коньках, не проводит в школу, все равно живот чего-нибудь стоит. Сейчас у нее была эта безмятежная радость, эта мечта.
— Когда придет время, тебе покажется, что все кончилось слишком быстро.
Ивонна прижала ко лбу мою ладонь.
— Какая прохладная. Ты всегда прохладная, Астрид, ты совсем не потеешь. Ой, ребенок шевелится. Хочешь потрогать?
Она подняла футболку, и я приложила руку к горячему круглому животу, упругому, как подходящее тесто, чувствуя, как он перекашивается изнутри. У Ивонны на лице появилась странная кривая улыбка — восторг пополам с мыслью о том, что, она знала, неизбежно.
— Наверно, это девочка, — прошептала она. — В первый раз была девочка.
Только очень поздно ночью Ивонна могла говорить о своих детях. Рина запрещала ей говорить о них, даже думать. Но Ивонне это было нужно. Отец теперешнего ребенка, Изикиел, был водителем грузовика. С Ивонной он познакомился в Гриффит-парке, она влюбилась в него, катаясь на карусели. Я старалась придумать, что бы еще сказать.
— Крепко бьется ногами, — улыбнулась Ивонна. — Может, станет балериной.
Нехитрая мелодия электрогитары катилась по холмам, залетала в наше окно, и шар живота шевелился в такт, выгибался от толчков маленьких ручек и ножек.
— Хорошо бы она попала в герл-скауты. Ты будешь герл-скаутом, mijа[59]. — Ивонна погладила живот. — Астрид, ты туда ходила?
Я покачала головой.
— Мне ужасно хотелось, — Ивонна чертила восьмерки на влажной простыне. — Но я даже просить не стала. Мама лопнула бы от смеха: «Твоя жирная задница у чертовых герл-скаутов?!»
Мы долго сидели в темноте, уже молча, надеясь, что у дочки Ивонны все будет хорошо. Гитарист успокоился, заиграл «Мишель». Мать любила эту песню, пела ее по-французски.
Наконец Ивонна задремала, и я вернулась в свою постель, вспоминая, как мать клала мне на лоб руки, когда я лежала в жару, как заворачивала меня в простыню, смоченную холодной водой с эвкалиптом и гвоздикой. «Твой дом — это я», — сказала она однажды. Все-таки это правда.
Тихонько нырнув под кровать, я достала пакет с письмами — одни конверты были тонкие, легкие, как обещание, другие толстые, как белый японский карп. Пакет был тяжелый, от него пахло ее фиалками. Я осторожно выскользнула из комнаты, чтобы не разбудить Ивонну, и плотно закрыла дверь.
В гостиной я зажгла лампу у зеленой кушетки, и все в комнате стало словно с картины Тулуз-Лотрека. Письма посыпались на столик. Я тянулась к матери и ненавидела ее. Как она могла дать мне такую красоту, целый мир, и при этом считать, что кто-то родился для передозировки?
Облезлый кот прокрался ко мне вдоль кушетки, трусливо оглядываясь, забрался на колени. Я не стала его спихивать, и он свернулся у меня на животе, теплый, тяжелый, урчащий, как грузовик на первой передаче.
Дорогая Астрид!
Сейчас три часа ночи, только что прошла четвертая смена. Свет в изоляторе никогда не выключают. Даже маленькие лампочки слишком ярки для серых бетонных стен шириной чуть больше кровати и туалета. Писем от тебя нет. Только секс-гимны сестры Лунарии день и ночь доносятся с нижней койки, как мантры тибетских монахов, просящих за жизнь мира. Сегодняшняя экзегеза посвящена Книге Рауля, ее последнего бойфренда. Как благоговейно она описывает размер и форму его члена, составляет подробный каталог его эротических достоинств.
О сексе я думаю здесь в последнюю очередь. Одна всепоглощающая мысль — свобода. Я всматриваюсь в молекулярную структуру стен, размышляю над строением вещества, вижу преобладание вакуума в неистовом родео электронов. Стараюсь вибрировать между пучками квантов, попадая точно в противоположную фазу, чтобы в конце концов научиться вклиниваться в промежутки при сжатии. Тогда вещество станет полностью проницаемым, и однажды я пройду сквозь стены.
«Гонсалес занимается этим с Вики Маноло в Симмонс А, — приговаривает Лунария. — Он дышит, как конь. И когда садится, кажется, у него там бейсбольная бита».
Заключенные вроде Гонсалеса еще берут на себя труд флиртовать — пользуются одеколоном, руки белее каллы. Постоянно мастурбирующая Лунария воображает огромные пенисы, мысленно совокупляется с быками и конями, предается поистине мифологическим фантазиям. Я вглядываюсь в мельчайшие выщерблинки бетонных стен и слушаю ночное дыхание тюрьмы.
Теперь я слышу все. Слышу шлепанье карт в караульной — не покер, скорее джин рамми, слышу их жалобы на геморрой и подозрительных жен. Слышу, как храпят в отдельном коттедже старухи, как опускаются в воду вставные челюсти. Слышу, как пошла на улицу серая кошка поварихи. Слышу крыс на кухне. В спецблоке кричит женщина — она тоже слышит крыс, но не понимает, что они не у нее в постели. Ее быстро вяжут.