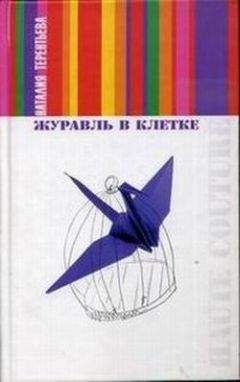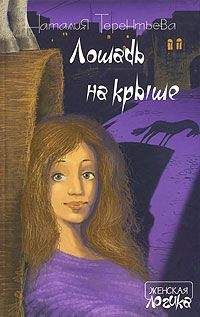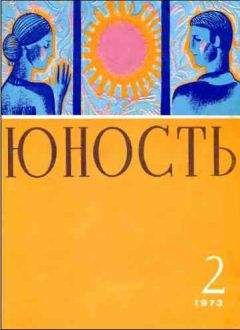Наталия Терентьева - Училка
А пока я не ушла из школы, я должна позвонить Селиверстову. Бедный мальчик. Выбили зуб… Почему я-то не знаю? Уже звенел звонок на первый урок, но я решила чуть задержаться.
— Кирилл?
— Да, здравствуйте, Анна Леонидовна.
— Кирилл, что произошло? Что у тебя с зубом?
— Нет зуба больше, — невесело хмыкнул мальчик.
— Господи, ну что же такое! А как это произошло?
— Ну… — он замялся. — Анна Леонидовна… Может, не надо?
— Почему? Пожалуйста, расскажи мне, почему была драка.
— Ну мальчишки, старшеклассники, что-то сказали Катьке Бельской. Я даже не знаю что… Ну что она выпендривается, что ли… Она им ответила. А этот Прохоров взял ее и ударил. Прямо по лицу. Ну а я все видел и тоже его ударил.
— Молодец… То есть я хотела сказать — понятно.
— Ну и…
— Ясно. А он один с тобой дрался?
— Нет, еще двое.
— Господи, и где это было?
— Около школы.
— Они из какого класса?
— Один из десятого.
— Я не веду у них. Не знаю никого.
— Еще один из одиннадцатого…
— А кто? Кто?
— Я не знаю фамилии. Здоровый такой.
Здоровый — это или «урод» Шимяко, с которым не разговаривает никто в классе, так и не объясняя толком, почему он урод, но он и не ходит почти в школу, раз в неделю в лучшем случае, аттестат какой-никакой нужен все-таки. Или Громовский… Ладно, все равно узнаю.
— А зуб какой?
— Передний, — вздохнул Кирилл. — Мама говорит, можно сделать имплант, будет совсем как настоящий.
— Конечно! Конечно, у меня есть имплант, сбоку правда, сделала и забыла.
— Похож на настоящий? — с надеждой спросил Кирилл.
— Абсолютно, не отличишь! — сказала я, стараясь, чтобы это звучало правдоподобно. Надежда гораздо важнее той реальности, которая наступит потом. Когда надежда станет бывшей. К той реальности постепенно можно будет приготовиться, потом привыкнуть… Я знаю, что это такое. А вот без надежды — никак. Имплант не похож на зуб, коронка не похожа на живой настоящий зуб. Ничто искусственное не похоже на настоящее. Ничто.
— Не переживай. Прохорову этому достанется, уверяю тебя. И пожалуйста, напомни маме, чтобы она обязательно пришла в школу на собрание.
Да, нужно еще на пару недель задержаться. Я хотела уйти сразу после собрания. Кажется, положено об этом предупреждать администрацию заранее, но мне мой верный друг Анатолий Макарович, Толик Щербаков, принес на хвосте новость — в школу просится молодая учительница словесности. Симпатичная, покладистая, русская, не замужем, без детей. И отпустят меня сразу, как только я напишу заявление — сделала я такой вывод. Но я сначала разберусь, как смогу, с хулиганами. Если, конечно, меня пустят разбираться. Для этого в школе есть другие люди.
Первый урок был у меня в пятом классе, а второй — как раз в одиннадцатом. Не буду сейчас к ним заходить, потерплю, через час разберусь.
Пятиклассники мирно спали, день был темный, дождливый. Перетасова с полузакрытыми глазами качалась на стуле, тихонько подвывала: «Сидят пта-а-а-а-ашечки… маката-а-а-ашечки». Она спела это уже раз сто, я надеялась, что ей надоест. Ваня тоже спал, время от времени поднимал голову, здоровался со мной и с Розой, которая все мерещилась ему в коридоре, и переворачивался на другой бок. Аля Стасевич с удовольствием читала вслух по моей просьбе рассказ Распутина «Мама ушла». Маленький Гриша внимательно слушал Алю. Сережины самолеты стояли на ремонте, сам он прилег на парту, положил щеку на сложенные ладони и время от времени тихонько заводил мотор, но только тот не заводился.
Ладно, не бегают по классу, не бредят и хорошо.
— «И тогда мальчишка снова заплакал, — с выражением читала Аля. — Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. А с одиночеством встретился впервые…»
А я смотрела в окно. Кто бы мог подумать, что вчера над площадью Маяковского в девять вечера было ясное небо, ни облачка, красивейший золотой закат? Сегодня моросило, дуло, и ныли тело и душа. А тут еще бедный Кирилл. Вчера, когда моя душа была полна музыкой, счастьем, надеждой на какую-то другую жизнь, радостными волнениями, Кирилл сидел дома с опухшей челюстью, рядом с плачущей мамой и плевался кровью. Как странен и жесток мир. Мне этот мальчик никто. И — кто. Потому что он спас Никитоса от бездомных собак. Я не знаю, как бы рыдала сейчас я и что бы было, если бы не Кирилл, бросившийся тогда на стаю с камнями и палкой. Поэтому для меня этот мальчик не просто ученик и ребенок, которого я знаю, а человек, благодаря которому мой Никитос жив и здоров, ходит на концерты, ищет себя, а не лежит в больнице, весь в швах. Или на кладбище.
Я перекрестилась — и от своей последней мысли, и перед тем, как войти в одиннадцатый, и открыла дверь. Дети, а точнее, взрослые люди, заканчивающие школу, сидели как обычно. Как будто ничего и не произошло. А ничего и не произошло. Они привыкли к крови — ее полно в телевизоре, в играх. Они привыкли к чужим смертям — и настоящим, и придуманным. Они убивают в играх, они любят играть в пейнтбол — расстреливать друг друга красками. Они путают реальность и игру, страшную, странную игру в смерть, которой полны современные фильмы и компьютерные игры.
Я оглядела класс. Шимяко, как обычно, не было. Я бы даже его не узнала, встретив на улице, видела его раза три-четыре. И так и не поняла прозвища «урод». Мне лично он ничего не говорил, кроме своего «отвали» на моем самом первом уроке.
Зато был Громовский. Одного взгляда на его лицо мне было достаточно, чтобы понять, кто принимал участие в драке. Он сегодня был очень аккуратно одет, еще лучше, чем все последнее время. С тех пор как он решил стать журналистом, он ярко и выразительно одевается. По количеству и качеству его пиджаков я могу поверить его одноклассникам, что за Громовского заплатят везде и всюду и столько, сколько попросят. И еще сверху дадут.
— Здравствуйте, Анна Леонидовна! — громко сказал Громовский. — Я написал эссе, хочу прочитать.
— По какой теме? Я разве задавала?
— Нет, я сам выбрал. Мне же надо готовиться к творческому экзамену и к собеседованию.
— И что ты написал?
— Сейчас… — Громовский открыл большую кожаную тетрадь, — «Единство личности и вселенной как одна из центральных тем поэзии Тютчева».
Я покачала головой.
— М-м-м… Мощно! А на основе каких произведений?
— На основе стихотворений… так… «Как океан объёмлет…»
— Объемлет, наверно, Громовский.
— Ну да. «…объемлет шар земной», «О чем ты воешь, ветр ночной?»…
Миша Овечкин хмыкнул:
— Йоу, Ильяндрыч! Растем, землекопы!