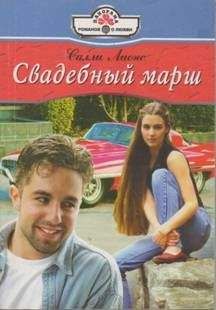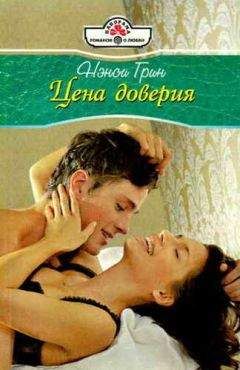Айрис Мердок - Ученик философа
— А потом он вас вытащил и пинал ногами.
— Кажется, это меня злит больше. Я его провоцировала. Я дразнила его Розановым. Если он в самом деле меня когда-нибудь убьет, это будет несчастный случай.
— Неважно. Продолжайте. Все его мелкие выходки или шуточки, как говорят его поклонники…
— Они как… образы, символы… как репетиция чего-то, что он сделает в один прекрасный день и успокоится… и тогда остановится… это его наконец удовлетворит, а может, внушит ему отвращение, он что-то уничтожит в самом себе, выдохнется, бледный, слабый, как червяк в яблоке, и весь его зуд утихнет.
— А на какой стадии он сейчас?
— Это я и хочу понять. История с Розановым прервала ход вещей. Это серьезно, но в каком-то смысле тоже, может быть, divertissement. Это случайность, она может пройти. Розанов вернется в Америку, и Джордж оправится. Тогда мы все узнаем.
— Узнаем, случилось ли уже оно… то, что должно его исцелить?
— Да. Я думала, что это будет случай с римским стеклом.
— Да?
— Потом я думала, что это случится, когда он убьет меня.
— Но вы еще живы.
— Да, но могло хватить и попытки.
— А если нет?
— Он может решить, что обязан меня убить, чтобы довести дело до конца. Возможно, он видит эту историю как фиаско, потерю лица, неудачу.
— Так вы поэтому ждете?
— Нет, не поэтому, это ничего не меняет; если я решу вернуться к Джорджу, значит, я буду готова рискнуть. Я просто не хочу возвращаться наобум, теряя чувство собственного достоинства, с затуманенной головой, без стратегии…
— Стратегии!
— А теперь, раз уж я столько времени тянула, я с тем же успехом могу дождаться, пока Розанов уедет обратно в Штаты.
— А если Джордж исцелится, выдохнется, как вы сказали, будет слабый и бледный, как червяк в яблоке, кроткий, будет ли он вам по-прежнему интересен? Может быть, вам просто нравится ждать?
— Иногда мне кажется, что Джордж — рыба, которая попалась мне на крючок… на длинной, длинной леске… и я ее вываживаю… вываживаю… Какая жуткая картина.
— Что за музыка такая странная?
— Это ярмарка на общинном лугу.
Доносившиеся издали звуки ярмарочной музыки, разбавленные и облагороженные теплым вечерним воздухом, слабые, прерывистые, долетали в сад Белмонта. Чуть ближе заходился в лиричной, почти соловьиной, песне дрозд. Дерево гинкго примеряло летний плюмаж. Пышные висячие ветви были похожи на округлые лапы огромного зверя. В саду пахло цветами бирючины. По правде сказать, ими благоухал весь Эннистон, так как этот ценный кустарник был популярен в качестве живой изгороди.
— Перл, я боюсь.
— Чего, милая?
— Давай закроем ставни.
— Еще рано.
— Я написала Марго.
— Вот молодец.
— Смотри, какое хорошее пресс-папье вышло из каменной руки.
Хэтти положила известняковую руку, найденную в заросшем саду, поверх стопки писем. Письма были адресованы тете Марго, школьной подруге Верити Смоллдон и Кристине, у которой Хэтти гостила во Франции.
— Ты ответила тому нахальному журналисту?
— Да. Еще вчера. Подумать только, в газете знают о моем существовании!
Редактор «Эннистон газетт» написал Хэтти с просьбой об интервью.
— Надеюсь, ты наотрез отказала.
— Конечно.
Ночью Хэтти видела страшный сон, и его обрывки никак не шли у нее из головы. В пустом сумеречном магазине она увидела на верхней полке маленькую красную полупрозрачную тварь и сочла ее большим ужасным насекомым. Потом тварь запорхала, и Хэтти увидела, что это очень маленькая и очень красивая сова. Совушка закружила прямо у Хэтти над головой, вызывая пронзительное чувство удовольствия и в то же время печаль. Хэтти протянула руку, пытаясь схватить сову, но боялась ей повредить. «Выпусти ее в окно», — сказал чей-то голос, но Хэтти знала, что эти совы живут в комнатах, а на улице погибают. Потом она посмотрела на другую полку и с ужасом увидела, что там сидит кошка и вот-вот бросится на сову.
— Ты сегодня какая-то беспокойная.
— Так пахнет цветами, я не могу дышать. Отец Бернард сказал, что, может быть, придет.
— Уже не придет.
— Может, и придет, он всегда поздно приходит. Перлочка, ты его не любишь.
— Мне кажется, он в чем-то фальшивит.
— Это несправедливо.
— Пусть будет несправедливо.
— Не сердись.
— Перестань, я вовсе не сержусь!
— Пожалуйста, не шей. Что ты шьешь?
— Твою ночную рубашку.
— Тебе понравилось в Лондоне?
— Да, конечно.
— Жаль, что ты не любишь картинных галерей.
— Я люблю картинные галереи.
— Ты притворяешься.
— Хэтти…
— Извини, пожалуйста, я просто ужасная. Это потому что свет такой странный, солнце светит, а все равно как будто темно. Я так странно себя чувствую. Я надеюсь, что не зря теряю время.
— Если ты читаешь те большие книги, значит, ты не теряешь времени.
«Большие книги» были трудами европейских классиков, на которые неопределенно указал отец Бернард, сказав, что Хэтти может «хотя бы вот это почитать», пока Джон Роберт не распорядился насчет ее дальнейших занятий. Сейчас она читала «Tod in Venedig»[115].
«Перл, милая, теперь, когда Хэтти наконец-то уехала в университет, я могу открыть, как ты мне дорога. Ты была мне великим утешением и великой опорой. Я начал понимать, что не могу без тебя. Смею ли я надеяться, что я тебе хоть немного небезразличен?» Эти слова в устах Джона Роберта были частью сцены, которую Перл воображала себе, разговаривая с Хэтти. В конце концов (это туманное выражение в последнее время стало очень важно для Перл) Джон Роберт обратится к ней, возможно — как к последнему прибежищу.
Эти видения сами собой разворачивались в мыслях у Перл. В то же время ее мучило подозрение, что Джон Роберт питает к внучке очень сильные чувства, но намеренно их скрывает. Конечно, с Хэтти Перл об этом не говорила.
Алекс видела один и тот же сон — в первых лучах рассвета она выглядывает из окна Белмонта и видит, что сад стал огромным, теперь он включает в себя озеро и дальний лес и по нему деловито ходит толпа незнакомцев. Чувство бессильной ярости, страха и горя охватило Алекс во сне.
Теперь, слушая скворца и глядя из окна гостиной, где еще не включили свет, Алекс увидела в саду неподвижно стоящего человека, и ее кольнул тот же страх. Алекс почти сразу поняла, что это Руби, но фигура оставалась зловещей. Что делает Руби, о чем она думает, зачем стоит там одна? Сегодня Алекс видела лисицу, которая сторожко, изящно лежала на траве, а четыре детеныша резвились вокруг и карабкались матери на спину. Это зрелище было приятно Алекс, но в то же время причиняло непонятную боль, словно она отождествила себя с лисой и ощутила страх, всегда живущий у лисы в сердце.
— Я не могу молиться, — сказала Диана.
— Дурочка, очень даже можешь, — сказал отец Бернард, глядя на часы.
Диана в кои-то веки пришла на вечернюю службу, но Руби в этот вечер не явилась. После службы отец Бернард пригласил Диану в дом для клириков, подержал ее за руку, налил ей стаканчик бренди, а потом как-то так получилось, что они продолжали пить вместе.
— Ты можешь попробовать молиться. Если ты говоришь, что не можешь молиться, значит, ты знаешь, что значит пробовать молиться. А пробовать молиться — это и значит молиться.
— С тем же успехом можно сказать: «Если ты не умеешь говорить по-китайски — значит, ты знаешь, что такое говорить по-китайски».
— Это другое. Бог знает наши нужды еще до того, как мы их высказали, знает и то, что мы не умеем просить.
— Это зависит от того, верит ли человек в Бога, а я не верю. Если б только Джордж бросил пить.
— Сейчас все считается верой в Бога — депрессия, склонность к насилию, самоубийство…
— Значит, он верит в Бога.
— Встань на колени, сбрось свое иго.
— Это звучит как строчка из шлягера. Он верит в Бога?
— Не знаю. Но ты веришь. Проснись. Придумай что-нибудь. Сделай что-нибудь новое. Сходи навестить мисс Данбери.
— Как она там, бедняжка?
— Больна. Одинока.
— Она не захочет меня видеть, она меня не одобряет. Если б вы согласились повидаться с Джорджем.
— Черт бы побрал Джорджа. Чем раньше он совершит какое-нибудь настоящее преступление и попадет за решетку, тем лучше.
— Как вы можете!
— Я думаю, тебе надо все бросить и бежать.
— Вы меня так расстраиваете.
— Выбирайся из этой помойки. Садись на поезд и поезжай; на любой, все равно куда.
— Вы видели Стеллу?
— Нет.
— Не может быть, чтобы он ее убил. Куда она делась?
— В Токио, и ты езжай в Токио, езжай куда-нибудь, сделай что-нибудь.
— Я купила новый шарф.
— Новый шарф может быть сосудом благодати.