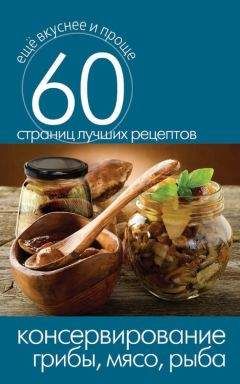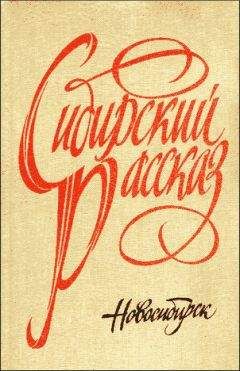Евгений Городецкий - АКАДЕМИЯ КНЯЗЕВА
– Во-первых, работаете вы не на меня, а на тему. Во-вторых, Коньков без вашего согласия ко мне не пришел бы. И в-третьих, вам легче отказывать, чем мне: вы все-таки мужчина, и вы – непосредственный исполнитель.
В другое время Заблоцкий наверняка затеял бы с Зоей Ивановной дискуссию, кому из них легче отказывать, но голова все еще болела, да и тон Зои Ивановны не располагал к трепу. Он буркнул: «Хорошо, учту», – и занялся шлифами. Сегодня непременно надо отснять и проявить все, что приготовила Зоя Ивановна, и Сене сделать негативы. Завтра – отпечатать снимки, и если останется время – сделать негативы Конькову. Подождет до завтра.
Руки привычно делали свое, а в голове перемалывалась вхолостую всякая всячина – все, чем жив был Заблоцкий последние дни: где раздобыть денег для поддержания живота… как установить связь с Витькой, минуя Марину… у матери скоро день рождения, подарок нужно… бабка последнее время ворчит, что зря пустила парня, надо бы двух девочек… Все верно, бабуся, два раза по пятнадцать больше, чем один раз по двадцать… И сквозь эту бытовщину, где всем правит и во главе всякого угла стоит окаянный рубль, петляла и прорывалась, нацеливаясь в совесть, в самую ранимую ее сердцевину, давняя и потаенная укоризна: когда же ты, уважаемый, перестанешь заниматься самоедством, когда отряхнешь с себя уныние и засядешь за микроскоп, за свои неначатые замеры, за неоконченную диссертейшн?
Зачем, собственно говоря, ты вернулся? Только для того, чтобы закончить диссертейшн. Так постарайся же, докажи, что в состоянии доводить начатое дело до конца и, значит, достоин доверия и уважения. А вместо этого уже больше двух месяцев ты все тянешь резину, все откладываешь и откладываешь, каждый понедельник собираешься начать новую жизнь и, не начав, к вечеру успокаиваешь себя тем, что помешали непредвиденные обстоятельства, но уж со следующей недели – обязательно… Сколько можно?
Ладно, решил Заблоцкий, все, хватит. Этак я никогда не начну. Сегодня работаю до половины шестого, затем сажусь за столик Федорова – и часов до девяти. За вычетом ужина и перекуров – три часа чистого времени. Это же капитал! Если даже пять замеров в час – за вечер пятнадцать замеров. Десять вечеров – сто пятьдесят замеров, сто вечеров – тысяча пятьсот. А мне за глаза хватит тысячи. Месяц на обработку, месяц на оформление, месяц туда-сюда – и в мае работа готова. И все, и нечего киснуть. Я один, никто не дергает, не отвлекает, идеальные условия! Сеня с его чадами и домочадцами может мне позавидовать. Вообще это следовало бы ввести в законодательство: будущим диссертантам для последнего, решающего броска брать у собственной семьи отпуск на манер административного и…
Приоткрылась дверь, мужской голос сообщил:
– Заблоцкого к телефону в двадцать первую.
«Кому я понадобился? – с тревогой подумал Заблоцкий. Звонили ему редко, – С Витькой что-нибудь? С мамой?»
В двадцать первой собрались люди, которые работали главным образом на себя и потому в надзоре не нуждались. Все они были с разных тем, но все приблизительно ровесники – от тридцати пяти до сорока. Одинаковый возраст, одинаковое служебное положение, одинаковая цель – все это сдружило их. И поскольку начальства не было, в двадцать первой царила атмосфера юмора, взаимных безобидных подначек и невинных поборов-штрафов.
Причин для наложения штрафов было множество: курение в комнате; употребление грубых слов; болтовня, если она мешает другим; дурное настроение; чихание и кашель; насвистыванье; старый анекдот и тому подобное – всего пятнадцать пунктов. Кроме того, существовала еще система налогов за услуги, где самым дорогим было приглашение к телефону сотрудников из других комнат: «однополый» разговор – пять копеек, «разнополый» – десять. Дело в том, что по давней, неизвестно кем утвержденной схеме двадцать первая имела на коммутаторе выход в город, а большинство остальных комнат этого выхода не имели.
Сотрудники отдела больше всего возмущались по поводу платы за телефон, но терпели: откажешься платить – оштрафуют за жадность и в другой раз не позовут.
Казна – банка из-под кофе с припаянной крышкой – была прикреплена металлическим хомутиком к тумбочке, на которой стоял телефон, однако мелочь бросали не в копилку, а в блюдце-монетницу: чтобы без обмана и чтоб можно было в случае необходимости взять сдачу. Рядом на стене висело «Уложение о штрафах и налогах», которое заканчивалось странным изречением: «С миру по нитке – голому петля». В конце дня казначей опускал деньги из монетницы в прорезь копилки. Время от времени копилка вскрывалась и устраивалось чаепитие, на которое приглашались гости из других комнат – чтоб не так обидно было.
Заблоцкий взял лежавшую подле аппарата трубку.
– Я слушаю.
– Аллоу, Алексей, это Коньков. Я тебе там шлифы принес, видел? Места, которые надо сфотографировать, я пометил. – Звучный баритон, усиленный микрофоном, звучал густо, как голос Левитана, и в нем не было ни просительной, ни извинительной интонации, одна лишь деловитость. – Меня интересует микроклин, пертитовые вростки и сопутствующая пылевидная минерализация. Там увидишь – решетка такая, а в ней…
– Я знаю, что такое пертитовые вростки, – перебил Заблоцкий. Он был раздосадован вдвойне, втройне: этот барин поленился задницу от стула оторвать, спуститься на другой этаж и еще разговаривает, как со школяром… – Будет время – сделаю. А чего это вы по телефону? Спустились бы, снизошли, так сказать, вот и поглядели бы вместе.
– Я звоню из треста, а это, как ты знаешь, довольно далеко. Кроме того, Зоя Ивановна меня так неласково встретила, что я теперь страшусь даже на вашем этаже появляться. И потом, Алексей, мною замечено, что обещание по телефону обязывает гораздо больше, чем, скажем, где-нибудь в коридоре. Обещание по телефону – это, дорогуша, почти равносильно обещанию с трибуны или письменному обязательству.
– Василий Петрович, когда все будет готово, я вам позвоню или дам телеграмму. Завтра или послезавтра. Скорее всего – второе.
– Второе – это девятнадцатое, а крайний срок представления материалов в сборник – восемнадцатое, то есть завтра.
– Ну, может, завтра к концу дня успею. Будьте здоровы.
Заблоцкий надавил штырек и представил себе, как Коньков осекается на полуслове, услышав частые гудки, как рассерженно бросает трубку в гнездо аппарата (в тресте повсюду красивые чешские «лягушки» из цветной пластмассы, не то что это черное допотопное устройство, трубкой которого можно забивать гвозди, а шнур вечно перекручен до узлов и петель). Он повертел в ладони трубку, раскрутил шнур и положил трубку на место. Кинул в монетницу пятак и, направляясь к двери, сказал:
– Грабители. Последнее отбираете.
– Поговори, поговори, – пообещал один из старших инженеров.
О Конькове он тут же забыл, вычеркнул его из памяти до послезавтра и переключился на текущее, на шлифы Зои Ивановны, а сам постепенно настраивался на тихий вечерний час, когда засядет за микроскоп. Такая настройка – он знал по прошлому – была необходима: помогала распределить силы, не выкладываться полностью на дела служебные, сэкономить что-нибудь и для себя.
После обеда он подошел к шефине.
– Зоя Ивановна, я хочу сегодня со столиком Федорова поработать. Можно?
Зоя Ивановна подумала самую малость и сказала с непривычной, не свойственной ей предупредительностью: – Да, Алексей Павлович, конечно… Где-то у меня тут ключ лежит.
Зоя Ивановна до половины вытянула ящик стола, заставленный коробочками со шлифами, и принялась шарить рукой в дальнем углу. Ключа там не оказалось. Зоя Ивановна открыла одну тумбу стола, потом другую, ящики обеих тумб тоже были заняты коробочками со шлифами, книгами, папками, а в самом низу лежали завернутые в газету туфли – не новые, но вполне приличные, чтобы носить на работе.
Ключ отыскался в коробочке со скрепками. Подавая его Заблоцкому, Зоя Ивановна сказала:
– Можете устраиваться за моим столом, – и добавила многозначительно: – Давно пора.
Это была милость. Зоя Ивановна не терпела, когда кто-то сидел за ее столом, пользовался ее осветителем, не говоря уж о микроскопе. Отходя от стола шефини, Заблоцкий поймал мимолетный косой взгляд Вали и понял, что Валин счет к нему все увеличивается.
Потом Заблоцкий спустился на первый этаж, в библиотеку. Это были владения Аллы Шуваловой – рослой, статной девицы с короткой стрижкой и ямочками на щеках. С Аллой можно было потрепаться, не боясь, что твои секреты и горести станут всеобщим достоянием, можно было стрельнуть хорошую сигарету. Алла была человеком неустроенным в личной жизни, ее уже несколько лет водил за нос некий Володя – бросать не бросал и жениться не женился, – и это обстоятельство, неустроенность эта вызывала у Заблоцкого сочувствие, ибо людей благополучных он недолюбливал. Вообще Алла стоила внимания во всех смыслах, Заблоцкий это понимал, но… Алла была чуть выше его и, как всякая женщина, выглядела рядом с ним крупнее, и потому мужское самолюбие не позволило бы Заблоцкому показаться с Аллой на людях. Предрассудок в эпоху феминизации, но так уж Заблоцкий считал.