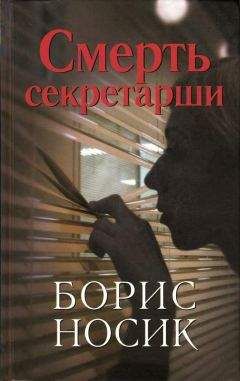Борис Носик - Пионерская Лолита (повести и рассказы)
В Бумалене погода испортилась, все утро лил дождь, но я все же поехал в ущелье и, едва отъехав от городка, сразу забыл обо всем — о холоде, о дожде, о глупом водителе, который все посмеивался, думая, что взял с меня миллион за провоз. Я забыл обо всем, потому что здешние пронзительно-красные касбы на мокрой изумрудной траве среди пронзительно-красных гор — они были нечеловеческой и словно бы нерукотворной красоты. Собственно, красота их и была нерукотворной, потому что люди их только воздвигли, а разрушало их время, проявляя при этом ничем не ограниченную фантазию. И цвет, Боже, какой в тот день был цвет, несмотря на дождь! А может, благодаря дождю. Сейчас-то я благодарю его смиренно, дождь, а тогда только ежился от холода и лишь много позднее понял, что Господь, в милости Своей пославший мне жизнь, недаром послал и дождь…
В Загору я ехал в «коллективном такси». Нигде и никогда в жизни я столько не ездил на такси, как в Марокко. Стоит оно копейки, и можно беспечно менять машины на площадях. Специальный зазывала набивает полный «мерседес», обшарпанный, как мой гардероб малоимущего странника, закрывает дверь салона, прижимая ее тощим плечом, потом, крутя на черном пальце ключ, походкой иноспеца подходит шофер, и мы отправляемся в дорогу. Если не было гор, и ксуров, и моря, и пальмовых рощ, я тут же ввязывался в разговор, то с мужиками, что побойчее и знают французский, то с любопытными и как бы застенчивыми девушками в пестрых кобеднишных шелках, то со старухами непонятной степени зрелости, закутанными в тряпки до глаз. На сей раз, по дороге в Загору, точно такая сидела на переднем сиденье, так что мне пришлось сесть сзади, рядом с чистеньким немцем и с молодым марокканцем, державшим на руках иссохшую, парализованную старушку, свою матушку. Утро было прекрасное — светило солнце, мне предстояло путешествие, а ночь с ее маятой бессонницы была позади. В такое утро легко испытывать любовь к человечеству. А может, ее поддерживал во мне в то утро молодой марокканец с парализованной матерью на руках. Я-то вот не успел поносить на руках парализованную мамочку, а тоже ведь — считался неплохим сыном, или сам так считал. Вот и взял бы ее с собой в путешествие, переносил бы на руках из машины в машину…
Мы тронулись, и закутанная женщина впереди стала что-то рассказывать шоферу, то весело, то грустно, с большим напором и убедительностью, но все на своем непонятном марокканском наречии. Шофер молча кивал, смотрел на дорогу, а мне стало тревожно, потому что я не мог понять ничего — ни в ее словах, ни в чужой жизни.
— Что тебе рассказывает мамаша? — спросил я у шофера, который чуток объяснялся на чужом для нас обоих, но понятном французском.
Он кивнул и приготовился к умственному труду перевода. Но и она поняла кое-что, во всяком случае, про мамашу она поняла — и заговорила с еще большим напором. Шофер усмехнулся.
— Она говорит, что она не может быть тебе мамаша, — сказал он, — Она не такая старая.
Продолжая говорить, она полезла в огромную свою сумку, развернула какую-то пеструю тряпочку и стала передавать мне назад одно за другим какие-то удостоверения, тоже, конечно, написанные по-арабски. На них были ее крошечные фотографии, и была дата рождения… На фотографиях она была с открытым лицом (стыд и позор), и она оказалась на них совсем молодой, вполне ничего себе, с черточками татуировки на подбородке. Карточки были, конечно, старые, но дата подтверждала, что она и правда не старая, лет на двадцать моложе, чем я. Один документ был без карточки, и я в нем ничего не понял. Шофер объяснил, что там про ее мужа. Про то, что он погиб на войне. С каким-то они тут воевали Фронтом Полисарио за какой-то кусок пустыни, и он был убит. Он был совсем молодой, они успели прожить вместе недолго и сделать только пятерых детей. И вот она одна растила детей, пенсию за него платили маленькую, но она нашла работу — в гостинице, в Агадире, а теперь ехала в родную деревню, потому что хозяину нужны были еще уборщицы и он поручил ей выбрать своих, деревенских. Я вернул ей ксивы, и она, взглянув на какую-то свою фотографию, вдруг засмеялась, совсем по-молодому, и я понял, что и для нее это целое приключение — и дребезжащее такси среди пальмовых рощ, и полная машина каких-то благожелательных и не слишком грубых мужчин… И еще я понял, что все наши беды, и тяготы, и унижения (где ж вы видели не униженного сочинителя?) — все они относительны, а стало быть, не так уж серьезны, и что всегда остается место для какой ни то радости, какой-нибудь маломальский просвет, так что не надо скулить и не надо маяться, если с утра ничего не болит, тоже мне Иов на гноище, сочинитель и плакальщик Земли Русской, забывший уже, как пахнет в России март…
Но сосед мой, приятный чистенький немец, может, и не понял этого, — может, он невнимательно слушал шофера-переводчика, может, он вообще не понимал французского или его не волновал женский смех, а может, у него был сейчас совершенно другой настрой и другие, как выражались в той жизни, творческие задачи. Когда все замолчали, он начал рассказывать мне на вполне правильном, хотя и бездушном английском про цели своей поездки в Загору, в которой он уже был однажды, год или два года тому назад. Тогда он жил в одной маленькой («И грязной», — прибавил я мысленно, не знаю отчего, может, оттого, что был он такой чистюля) гостиничке, и хозяин угощал его чаем в своей лавке народных промыслов, по соседству («Художественные или народные промыслы» — это когда хотя бы часть сувениров в лавке не привезена из Гонконга или с Тайваня. Вот в полуэкзотическом Израиле, например, народных промыслов нет. Зато там предлагают в качестве сувениров семисвечники и другие предметы их культа, хотя опасаюсь, что они-то уж точно изготовлены в дешевом Гонконге). Во время этих чаепитий хозяин (лавки и гостиницы, в общем, хозяин жизни) предлагал моему немцу (его, кстати сказать, звали Гюнтер) за умеренную сумму прокатиться на верблюде в пустыню с его братом, наладившим в Загоре верблюдное обслуживание туристов. Но молодой Гюнтер не поехал тогда в пустыню с предприимчивым братом хозяина. У него оставалось очень мало дней отдыха. И не очень много денег. К тому же он спешил в Берлин, чтобы увидеть свою девушку. У них уже давно очень близкие отношения, они привыкли друг к другу, и она хорошо к нему относилась. Она и сейчас хорошо к нему относится, однако за год, который истек с прежней его поездки в Загору, в жизни моего попутчика, молодого Гюнтера, произошли нежелательные перемены. В него влюбилась еще одна девушка, которая тоже к нему хорошо относится и дарит его своей лаской. Он не хотел бы обижать первую девушку, но и второй он теперь чувствует себя обязанным, а встречи с ней сами по себе доставляют ему приятность, так что он не может ни на что решиться, и это сделало его жизнь очень трудной…