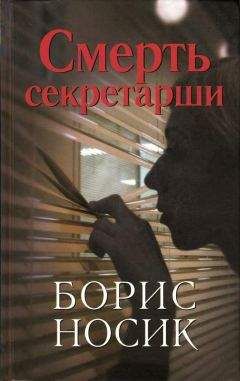Борис Носик - Пионерская Лолита (повести и рассказы)
— Это у Пушкина есть, — сказала Света, — «С пармазаном макарони…» Это он описывал своему другу в стихах, где что можно поесть в поездке…
— Да, в командировке не больно отъешься, это правда, — сказал Валерий. — В Москве, например, весь день как собака голодный бегаешь, и поесть негде. А все же кой чего привезешь из Москвы. Кой-чего выбрасывают.
— Наш русский человек вообще любит поесть, — сказала Валерия. — Сейчас небось весь Стрешневск сидит у стола и чем-нибудь да закусывает…
— И в бараках… — сказал Краковец задумчиво. — И в вагончиках…
— В балка́х-то? — оживился Валерий, вспомнив, возможно, неприятности нынешнего утра. — О-го-го, там еще как сегодня выпивают. Сегодня ведь что у нас, Лера? Что-то такое есть…
Валерия взглянула на отрывной календарь с видом ВДНХ на субботе и сказала:
— Сегодня День строителя, ты что, забыл? Я, правда, и сама забыла. Раньше, бывало, у нас все гудело в День строителя.
— Наш народ любит погулять, — сказал Валерий. — Не то что где-нибудь там, на Западе. Я, впрочем, не был на Западе. Но у нас, между прочим, самая сейчас государственная проблема насчет пьянства…
Они выпили еще и помечтали немного о том времени, когда подрастет сын Валерия и когда он уедет в Москву, учиться с Высшей комсомольской школе, а Стрешневск к тому времени превратится в цветущий сад и весь покроется асфальтом и блочными пятиэтажными, девятиэтажными, а может, и больше домами.
— Да-а… Хорошо сидим, — сказал Валерий, и Краковец подтвердил это его наблюдение, а Света посмотрела на маленькие часики и сказала, что ей уже, наверное, пора. И Краковец сказал, чтоб хозяева не беспокоились, потому что он знает теперь дорогу и Свету проводит сам. Валерий было стал уговаривать их посидеть еще немного, но жена одернула его за нетактичность, и они стали прощаться.
— Завтра я вас в аэропорт отвезу, — сказал Валерий, прощаясь. — Так что не беспокоитесь. Все будет на высшем уровне.
Они торопливо возвращались во мраке, не успевая даже поговорить о культуре. Света открыла дверь своим ключом и спросила, не хочет ли Краковец выпить чашечку кофе. Она много раз видела в кинофильмах, как это делают, да и в некоторых книгах все начиналось с этой чашечки кофе. Например, у Заваляева. Однако Краковец сказал, что он сыт и пьян и даже нос у него в табаке. Он едва успел осмотреть бедный уют девичьей квартирки с разнообразными признаками отдела культуры и библиотечной жизни (на полке, например, был портрет Константина Симонова и еще кого-то с большой родинкой, может, Роберта Рождественского), как сам погасил свет. Они со Светой обнялись и постояли немного обнявшись в темном углу.
— Осторожно, тут кадка с Жениным цветком, — сказала Света, отпуская его, и, кажется, стала раздеваться первая: у них не так уж и много было времени до возвращения незнакомой Жени, до его отлета, до конца их любви, или, если угодно, романа, а может, даже, как любили говорить здесь, их «дружбы». «Я с одним летчиком дружила, и больше ни с кем», — сказала Света уже в постели, и это означало, что она уже не девушка, но что она не такая какая-нибудь, чтоб с кем ни попадя. Краковец оценил оказанное ему доверие, он обнял ее очень крепко и при этом спросил рассеянно (просто чтоб не молчать после такого сообщения, потому что не говорить же ему было, что он ни с кем, кроме первой и второй жены, не дружил или, скажем, что он ни с кем не дружил с самого вторника):
— И где вы с ним дружили?
— А здесь, — сказала Света, гладя его редеющие волосы. — Женя уходила через день. А через день я уходила…
Краковец был растроган тем, что она гладила его по голове. Давно уже никто не гладил его так: дурацкая привычка у нынешней молодежи сразу брать быка за рога, хвататься за его измученный рог. В остальном все было так же, как бывает всегда, когда времени мало, буквально не хватает его, чтоб разобраться, где ты и зачем.
Они полежали еще немного молча, трогая друг друга с благодарностью, и Света спросила, нашел ли он среди девушек-строителей нужный ему человеческий фактор. Краковец ответил, что ему посчастливилось это найти, но тут же подумал, что все эти его находки не подходят, конечно, для острого оружия печати — ни уходящие под снег зимовать крошечные балке́, ни тот трепетный человеческий фактор, который смутно замаячил перед ним в холодной комнате общежития… Потом он беспечно решил, что наплевать ему на печать, потому что ведь и отписываться по командировке ему, скорей всего, не придется.
— А вот в сексуальных отношениях, — спросила Света, — в них что, тоже встречается человеческий фактор?
— Я думаю, что да, — сказал Краковец, гладя ее спину и прислушиваясь к себе с безнадежностью. — Только он очень хрупкий. Он вообще очень хрупкий. Потому что и жизнь человеческая не длинна…
Света подумала, что он боится завтрашнего перелета, и сказала, что на здешних линиях почти не бывает аварий. Потому что эти маленькие самолеты очень надежные. Она это знает, потому что дружила с летчиком с местной линии, так что она это знает наверняка. В ответ он обнял ее еще крепче, и она была довольна, что ей, кажется, удалось его успокоить.
1986Мечта называлась касба
Я уже и не очень надеялся, что они вообще существуют и что я увижу их когда-нибудь. Конечно, какая-то надежда все же еще теплилась, иначе с чего бы я вдруг потащился снова в Марокко, на сей раз, впрочем, на юг страны, в город со странным названием Уарзазат.
«Они» — это замки из красной глины, высоченные, загадочные замки, с полдюжиной узких окошек где-то в вышине, а во всю ширь и высь — глухие красные стены, мало-помалу сужающиеся к крыше, кое-где украшенные каким-нибудь таинственным символом и канелюрами, будто это была детская, ручная лепнина… Ну да, словно дети всем миром лепили их, эти замки из песка и глины, на каком-нибудь красном пляже, у бирюзового моря. Но в том-то и дело, что моря там не было, а были горы, пустыни и пальмовые рощи, были горы из красной глины. Лепили же эти замки цвета красных гор взрослые люди, воины, защищавшие свои семьи, и жизнь, и достоянье от нападений других людей, мечтавших умножить свое богатство или просто не находивших какого-либо достойного их занятия, кроме войны. Рекламный плакат с изображеньем такого замка и с надписью «Посетите Марокко!» долгие годы висел у меня в изголовье в Москве, в «восточной спальной», наименее захламленной комнате моей экзотически захламленной, бредящей Востоком квартиры. Плакат подарила мне милая француженка-гид, колесившая с группами по всему свету и не знавшая, что ей с ним делать, со светом. Она знала, конечно, что путешествовать модно, весь мир мечтает о путешествиях, но ей уже давно хотелось отдохнуть немножко и обзавестись наконец мужем, и домом, и детьми, и каким-нибудь другим обществом, кроме клиентов турагентства, по возможности — культурным. Она стремилась к культуре, как выдвиженка с российской окраины в годы великого переселения народов, в эпоху превращения этих отсталых особняков, усадеб и храмов России в передовые Дома культуры (читай бедного Бабеля с поэтическим Платоновым, на два голоса). Там, в этом своем собственном культурном доме, заставленном подделками с гватемальского туристического базара, она смогла бы сказать культурному гостю, томно потрепав по волосам баловня-первенца, уже играющего этюд Черни на фортепьянах: