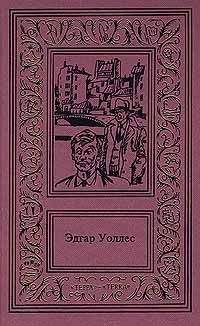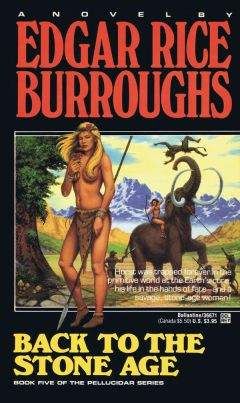Антонио Муньос Молина - Польский всадник
– Не знаю, что с тобой происходит, но ты какой-то странный, от меня этого не скроешь. Ты нервничаешь, торопишься: приехал утром и уже ждешь не дождешься отъезда. Лола тоже это заметила. Может, дело в том, что ты уже слишком много времени живешь в тех странах, где почти никогда не бывает солнца. Я бы на твоем месте вернулся. Разве ты не говорил, что теперь работаешь независимо? Так что можешь зарабатывать себе на жизнь и здесь не хуже, чем в Брюсселе. Я должен сказать тебе еще кое-что, хоть мне и стыдно. Я почти ни с кем не разговариваю, ни с кем не смеюсь. Я председатель общества собственников моего квартала. Меня только что утвердили на четвертый трехлетний срок. Я не должен бы тебе этого говорить, но я по тебе скучаю. Ты живешь за границей и, наверное, не замечаешь, что люди, которых мы знали, сильно меняются. Как в фильме про марсиан, который я недавно видел по телевизору. В городе объявились пришельцы, но они не захватывают его с помощью лазерных пистолетов, а завладевают душами людей. Ты смотришь на свою жену или друга и сначала ничего не замечаешь, но потом видишь в их глазах пустоту и некоторую скованность в движениях – и оказывается, они уже превратились в марсиан. Нормальный человек ложится вздремнуть, а когда снова открывает глаза, он уже другой, хотя и с прежним голосом и лицом. Этим утром, увидев тебя, я испугался, что ты тоже начал меняться. Сейчас мне уже спокойнее, но я не уверен – даже в самом себе. Ты скоро снова приедешь?
Я, почти как всегда, боялся опоздать и в половине одиннадцатого вечера попрощался с Феликсом и Лолой и опять ехал по городу в такси, как двадцать четыре часа назад в Мадриде. Я ощупывал карманы, проверяя, на месте ли удостоверение личности, паспорт, кредитная карточка, сомневался в своих часах и спрашивал время у таксиста. Приехав на вокзал, я подумал, что времени гораздо меньше, чем показывали часы, потому что в вестибюле почти никого не было и мадридский экспресс еще не стоял на перроне. Оставалось только ждать, хотя было уже почти одиннадцать. Как странно: и билетная касса по-прежнему закрыта, и газетный киоск и бар. Я уже предвидел катастрофу: как я мог понадеяться на испанские поезда! Служащий с фуражкой на затылке и сигаретой в зубах сказал, глядя на меня как на слабоумного:
– Как можно не знать о забастовке машинистов!
А мне непременно нужно было уехать и в девять утра быть во Дворце конгрессов, но я не мог позволить себе расходы на такси. Я решил взять напрокат машину, если удастся найти в Гранаде круглосуточное агентство. Я пошел от вокзала вверх по проспекту в поисках бара с телефоном и опять увидел женщину с чемоданом – еще более растрепанную и старую, в совсем разбитых туфлях. Она разговаривала сама с собой, а увидев меня, остановилась и позвала жестом. Таков мой удел: мне не хватило мужества пройти мимо, и я замедлил шаг, но дал себе клятву, что ни за что на свете не понесу ее чемодан.
– Послушайте, прошу прощения, вы не скажете, где находится склон Мараньяс? Не знаю, что сделали с улицами, их явно поменяли местами или сровняли с землей. Я живу на склоне Мараньяс, но не помню, где это, и, что хуже всего, забыла номер своего дома, так что, если не встречу человека, который знает меня, придется спать в подъезде. Ваше лицо кажется мне знакомым. Вы меня не знаете?
Старуха продолжала разговаривать сама с собой, когда я сбежал от нее. Я не хотел оборачиваться, но не мог забыть ее лица, думая, что оно чем-то похоже на лицо бабушки Леонор. И правда, у этой женщины было лицо моей бабушки, когда я вспоминал ее, ведя за полночь по мадридскому шоссе «форд-фиесту», взятый напрокат после целого ряда перипетий, и спрашивая себя, нашла ли она кого-нибудь, кто смог бы отвести ее на склон Мараньяс.
Я выпил перед выездом пару чашек кофе, но все равно хотел спать, гипнотизируемый фарами встречных машин и белыми линиями шоссе. Веки слипались, болели шейные позвонки и мускулы, и, боясь откинуть голову на сиденье, я держал спину прямо, крепко сжимая руль, и нажимал на педаль газа с сонным ощущением опасности. Я пристально смотрел на белую линию, стремительно приближавшуюся ко мне из темноты, а потом терявшуюся в зеркале заднего вида – с каждой минутой все быстрее и дальше в безлунной ночи, среди темных холмов и оливковых деревьев, мелькавших, как образы подкрадывающегося сна. Женщина с чемоданом, бродящая в окрестностях вокзала Гранады, седые волосы бабушки Леонор, сумасшедшая, ходившая вечером по улице Посо со спрятанной под платком брусчаткой. Огни на углах улиц – те же самые, что я видел сейчас перед собой, заброшенные сельские дома возле шоссе, дед Мануэль, идущий ночью через горную цепь, неподалеку от тех ночных пейзажей, которые я проезжал полвека спустя со скоростью сто двадцать километров в час. Всадник, снившийся мне иногда, дядя Пепе, вернувшийся с войны, Михаил Строгое на обложке книги, подаренной мне матерью на день рождения. Я почувствовал, что засыпаю, тряхнул головой и притормозил, увидев перед собой задние огни грузовика. Я решил, что успею обогнать его, переключил скорость и ощутил под ногами вибрацию двигателя. Обгоняя грузовик, я почувствовал, что нахожусь между жизнью и смертью, вне времени и реальности, будто летя во сне. Я не возвращался от Феликса, не ехал в Мадрид, чтобы работать утром синхронным переводчиком, я был всего лишь силуэтом человека, сидящего за рулем и освещенного фарами встречной машины. Я слушал голоса и песни по радио, а слабый зеленоватый свет и стрелка настройки, двигавшаяся с одной радиостанции на другую, будто неся меня сквозь все голоса ночи, вызывали в памяти внушительный радиоприемник со шторками, стоявший в доме моих родителей. Он находился очень высоко, на консоли из побеленного кирпича, и мне приходилось залезать на кресло, в котором меня кормили, чтобы достать до кнопок. Из приемника доносились шум дождя и стук лошадиных копыт: начинался сериал «Экипаж номер тринадцать» или всадник скакал на лошади в дождливую ночь под отдаленные раскаты грома. Все быстрее и быстрее, с одной радиостанции на другую, волны песен, обрывающиеся от легкого движения пальцев, слепящие огни, указатель поворота направо: «Махина, 54 километра». Он тотчас остался позади, и я торжествующе вел машину, с опасной ясностью сознания, похожей на вызываемую кокаином и возникающей, когда удалось преодолеть первую волну сонливости. Сейчас я вспоминаю то чувство и не уверен, что смогу объяснить тебе его. Это была смесь страха и дерзости, беспричинное воодушевление – такое же головокружительное и пустое, как шоссе, тянувшееся передо мной прямой лентой, когда около трех часов утра я проехал Деспеньяперрос и стрелка показала сто тридцать километров на первых равнинах Ла-Манчи. Видя красноватый свет на горизонте, я думал, что начинает светать, но это были огни городов. Я наткнулся на радиостанцию, передававшую песню Отиса Реддинга, и подпевал вслух, не вспомнив еще ее названия. Приблизившись к знаку, предупреждавшему о резком повороте налево, я инстинктивно приподнял ногу с педали газа и увидел фары грузовика, обгонявшего другой на повороте. За одно мгновение настоящей ясности и ужаса я понял, что если не съеду с дороги, то погибну под колесами грузовика. Я давил на тормоз, но скорость не уменьшалась, желтые фары слепили глаза, и белая морда грузовика занимала все пространство перед ветровым стеклом. Я вздрогнул от гудка, и на долю секунды абсолютная безмятежность заглушила во мне страх смерти. Наверное, я повернул руль с закрытыми глазами. Когда тряска прекратилась и я снова открыл глаза, машина стояла, но радио по-прежнему работало и все еще звучала песня, начавшаяся, когда я заезжал за поворот. Самое странное было не то, что я жив, а то, что Отис Реддинг все еще пел «Му girl», как будто за последнюю минуту не прошли целые годы.
*****Он идет по Лексингтон-авеню, укутанный, как эскимос, и проклинает свою судьбу, шум, выхлопы машин и мокрый ветер, налетающий на каждом углу. Здесь еще холоднее, чем в Чикаго: на нем утепленные перчатки, шарф, полупальто в красную и черную клетку, две пары носков, шерстяная шапка и наушники, но ничто не помогает, он по-прежнему умирает от холода – лучше было остаться смотреть телевизор в гостинице. Пар изо рта такой же густой, как пар из канализационных решеток и трещин в асфальте, на кончике покрасневшего носа заледенела капля,
как у дяди Рафаэля – пусть земля ему будет пухом. Мог ли бедняга подумать, что кто-нибудь вспомнит о нем в Нью-Йорке через столько лет после его смерти. Холод стоит хуже, чем во время битвы при Теруэле, и сгорбившиеся нищие, раздувшиеся от газетных листов, кутаясь в лохмотья, медленно бредут, как остатки наполеоновских войск во время отступления из России или сосланные в Сибирь. «Так, наверное, ходил прошлой зимой по этим безжалостным улицам мой друг Дональд Фернандес – а ведь он некогда так гордился, получив американское гражданство». У тротуаров лежит отвратительный грязный снег, превращенный в месиво шинами автомобилей. Если человек поскользнется, переходя дорогу на светофоре, люди не задумываясь растопчут его как стадо бизонов. Дональд говорил: «Если ты остановишься, тебя собьют, если споткнешься, то уже не поднимешься».