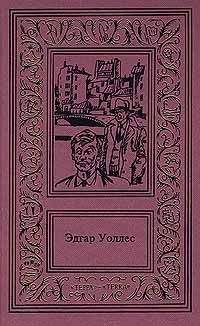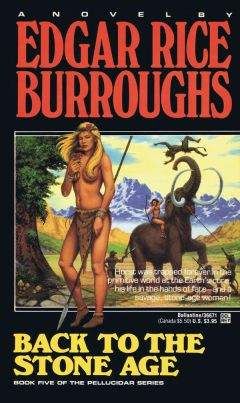Антонио Муньос Молина - Польский всадник
Со мной уже случалось нечто подобное прежде, и Феликс помирает со смеху, когда я ему об этом рассказываю. Он говорит, что я, как магнит, притягиваю симпатии самых эксцентричных сумасшедших и чудаков. Дело в том, что стоит мне потерять бдительность, как я вижу себя на месте любого из них: будто это мне восемьдесят лет и я тащу чемодан по незнакомому городу. Августовским утром я встречаю на улице Мадрида африканца, нагруженного коврами: он не может продать ни одного из них, заходит в бары и покорно принимает жестокие насмешки завсегдатаев. Тогда я становлюсь им, и мое сердце разрывается от горя, или представляю, что сам продаю ковры где-нибудь в Камеруне. Мне хочется угостить африканца кофе и купить у него все ковры, даже подружиться с ним, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким и окруженным расистами.
В общем, примерно в таком состоянии духа я шел в то утро по пустому городу, размышляя, как убить время до одиннадцати-двенадцати часов, когда прилично прийти в воскресенье в семейный дом. Я бродил, глядя на витрины, с полной подарков сумкой: космические корабли с мерцающими огнями для детей Феликса, бутылка беспошлинного солодового виски для него самого, флакон духов для Лолы. Я находился в унылом и нервном настроении – потому что приезд в какое-либо место угнетает меня так же, как воодушевляет отъезд – и был придавлен не тяжестью ковров, а бесконечными часами скуки. Время – как костюм, никогда не приходящийся впору: его то слишком мало, и я сбиваюсь с ног, то слишком много, и я не знаю, что с ним делать. Я прочитал бог знает сколько газет, несколько раз позавтракал, видел семьи, направлявшиеся с утра пораньше на мессу, и кабальеро с внушительными животами под спортивными курточками с большими связками чурро. Я, как обычно, спросил себя, что я здесь делаю; этот вопрос постоянно возникает в моей голове, и нервный болтун, сопровождающий меня повсюду, не может дать мне удовлетворительного ответа. Я спрашивал себя об этом настойчивее, чем когда бы то ни было, два месяца спустя во время завтрака в гостинице «Хоумстед», не в силах оторвать глаз от барышни-призрака, игравшей ветреными вечерами «Смерть и девушку». Я задавал себе этот вопрос и на банкете в зале университета, когда, вызволенный наконец объявившимися организаторами симпозиума, стоял, улыбаясь, с бокалом хереса в руке и разговаривал о погоде с профессорами и представителями правительства: нарисованные на их лицах улыбки казались обернутыми в целлофан, как сандвичи с огурцом, и они переходили от одной группы к другой балетными шагами, как на старомодных вечеринках. В конце концов у меня начинает кружиться голова, и я остаюсь один среди болтающих, внимательно глядя на дно своего стакана. Моя тень приближается, чтобы не оставлять меня в одиночестве, и шепотом спрашивает: «Что ты здесь делаешь, что общего у тебя хоть с кем-то из них?»
Так говорил мне некогда отец, чтобы отвратить от дурных приятелей. Что я делаю в переводческой кабине Европейского парламента, в аэропорту Чикаго или Франкфурта? Зачем брожу, как нищий, ранним утром по Гранаде, пью кофе без желания и курю до тошноты, смотрю на часы, убиваю время и с безупречной воспитанностью слушаю бред таксиста, наверное, тоже не спавшего ночь и злящегося на весь свет? Около двенадцати он подвозит меня к зданию, где живет Феликс, но я пока не решаюсь зайти, как коммивояжер – еще один род людей, вызывающих во мне сострадание и чувство вины. У меня сердце обливается кровью, когда я набираюсь мужества, чтобы не купить у них средство для натирания полов или Энциклопедию семейной медицины. Когда я вышел из лифта, Феликс уже стоял в дверях своей квартиры – с такой же неизменной улыбкой на лице, как его манера говорить и одеваться. Он спел мне приветствие из «Луисы Фернанды». Мы обнялись, но без особо бурного проявления чувств, потому что оба очень застенчивы, и Феликс спросил, почему я так задержался: они с Лолой уже боялись, что я пропустил поезд. Едва очутившись в прихожей его дома, я почувствовал, что по крайней мере в течение нескольких часов не буду совершенно не у дел, хотя меня немного пугали эти столь обжитые и прибранные комнаты, картины на стенах, мебель, шторы, библиотека, заполненная огромными томами, и полки с дисками Феликса. Во всем была какая-то давящая плотность, запах чистоты, аккуратно сложенной в шкафах одежды, легкого освежителя воздуха в ванной. И среди всего этого на диване передо мной сидел Феликс, наливая мне пиво на блестящем стеклянном столике. Мой лучший друг, не меняющийся в моих воспоминаниях последние десять – пятнадцать лет, только чуть потолстевший: с прежней прической, рослый и крепкий, но с некоторой детскостью в лице, в шерстяной кофте, конечно же, связанной его матерью, и тапочках. Он чувствовал себя так же комфортно в своем умеренном благосостоянии, как и тогда, в детстве, когда садился на ступеньку дома на улице Фуэнте-де-лас-Рисас, чтобы перекусить горбушкой хлеба с растительным маслом или землистой плиткой шоколада. «Лола повела детей к своим родителям, – сказал он мне, – чтобы мы могли спокойно пообедать. Ты ведь далек от всего этого, и наверняка дети действуют тебе на нервы».
Мне показалось, что Феликс говорил это с некоторой отчужденностью или настороженностью. Он поднялся, чтобы поставить диск, снова сел, насвистывая мелодию, и наполнил мой стакан пивом, не глядя мне в глаза.
С угрызениями совести и страхом я подумал, что в последнее время не берег его дружбу и, возможно, мы оба слишком полагались на прочность старых дружеских уз, постепенно ослабляемых расстоянием и беспечностью. Что мы знаем теперь друг о друге, что связывает наши жизни? Феликс преподает лингвистику в университете, читает греческий и латынь, изучает бог знает какие синтаксические коды и загадки для создания компьютерных программ, плюс два его почти страстных увлечения – зашифрованный дневник и композиторы барокко. Он проводит рождественские каникулы и Страстную неделю в Махине и снимает каждое лето домик на побережье. Глядя на Феликса, я вижу, насколько он не похож на меня, и постоянно спрашиваю себя, что у нас общего и почему он мой лучший друг вот уже почти тридцать лет. Несомненно, он тоже задавал себе этот вопрос в то утро, но пиво и музыка постепенно ободряли нас, и мы вспоминали значимые для обоих слова, забавные прозвища, махинские выражения, чепуху, по-прежнему сочиняемую Лоренсито Кесадой для «Сингладуры». Мы искоса поглядывали друг на друга и заливались смехом, потому что нам было достаточно одного-двух жестов или просто интонации, чтобы узнать друг друга. Когда Лола вернулась, у нас уже блестели глаза от смеха и пива: Феликс только что прочитал мне наизусть анонимный сонет, посвященный Карнисерито и совершенно изгладившийся уже из моей памяти. Вся квартира была залита чистым светом воскресного
утра, казавшимся мне таким же прозрачным, как и звучавшая в комнате музыка – концерты для гобоя Генделя, как объяснил мне Феликс. Эта музыка наполняла его утонченным счастьем и бодростью, а на меня действовала так же, как наш смех и несколько преждевременное пиво. Феликс готовил на кухне аперитив, а Лола смотрела на нас обоих, прислонившись к стене, скрестив руки на груди и держа в пальцах сигарету, и доброжелательно и чуть снисходительно улыбалась.
– Где ты живешь сейчас, с кем? – спросила она. – Сколько дней пробудешь у нас?
Когда я ответил, что собираюсь уехать этим же вечером, Феликс покачал головой, глядя на приготовленные им стаканы и блюдца с закуской, и сказал:
– Мануэль никогда не изменится. Похоже, он приезжает только для того, чтобы как можно скорее уехать.
Я уже не сомневался, что Феликс обижен на меня, но сам он никогда бы мне об этом не сказал. Мы повторяли свои обычные шутки, они говорили мне о детях, о работе, спрашивали о моей. Феликс смотрел на меня, будто не слыша, и, наверное, искал в моих глазах, моем усталом лице и нервных жестах ответ на свой невысказанный вопрос, на который я тоже не смог бы ему ответить. Тогда я внутренне насторожился и взглянул на себя его глазами. С этим я тоже не в состоянии ничего поделать: я могу наблюдать за собой глазами другого человека – даже не того, кто знает меня так, как Феликс, а любого незнакомца – и невольно склоняюсь к мысли, что его приговор будет беспощаден, и признаю его правоту. Внезапно я заметил, как беспокойны мои руки, я не выдерживал взглядов Феликса и Лолы, зажигал новую сигарету, едва затушив предыдущую, и пиво в моем стакане моментально исчезало. Но внимание Феликса не было осуждающим, а лишь упорным и тщательным, как и все его действия – манера резать сыр или обозначать названия пьес и имена музыкантов на записываемых им кассетах. Я вижу, как он что-то делает, и вспоминаю время, когда мы сидели за школьной партой и он писал в своей разлинованной тетради, проводя по губам кончиком языка: абсолютная и спокойная концентрация. Так он и построил свою жизнь – никогда не меняясь, с тех пор как я его знаю, но и не упорствуя в достижении цели со злобной непреклонностью, хотя ее с полным основанием могли привить ему невзгоды детства: парализованный отец, прикованный к кровати, мать, моющая полы и одевающая детей в Обществе социальной помощи. Феликс никогда не говорит об этом, и я ни разу не видел, чтобы он против чего-то восставал – даже в те времена, когда почти все мы играли в бунтарство, однако он и не капитулировал, не сдался. Феликс такой же, каким был и двадцать пять лет назад, и прошлым летом, и Лола, когда я вижу ее рядом с ним, производит на меня то же впечатление безмятежности и постоянства. Они оба будто родились такими и всегда лишь следовали этому инстинкту, защищавшему и улучшавшему их. Они не растратили себя, как ты и я, на годы блужданий и бесплодной любви и, кажется, никогда не знали ни отчаяния, ни разногласия. Они живут вместе, растят детей, ходят на работу и смотрят телевизор, уложив их спать, а потом, наверное, в них просыпается желание, и они предаются любви. Я видел, как они переглядываются, мимолетно касаются друг друга и улыбаются – не с тупым счастьем а-ля Дорис Дэй, как вечные молодожены, выставляющие себя напоказ перед супружескими парами друзей и в конце концов начинающие называть друг друга «мамочка» и «папочка» (меня просто тошнит от этого, честное слово), – а со стыдливостью и опытностью людей, хорошо знающих свое дело и занимающихся им всю жизнь, как мужчина и женщина, привыкшие к узам, доказавшим свою прочность в течение долгого времени. Нас с тобой преследует страх: мы не провели вместе еще и десяти ночей, не обладали ничем, что было бы устойчивым или, несомненно, нашим, и боимся будущего, воспринимая каждый час как подарок судьбы. Но Феликсу с Лолой, я думаю, незнакомо чувство неуверенности, так же как нам – представление о незыблемости. В прошлом году они переехали в эту квартиру, потому что прежняя, с появлением детей, стала слишком тесной: они взяли ипотечный кредит и купили новую мебель в рассрочку, но не чувствуют себя угнетенными или связанными по рукам и ногам. Феликс показывал мне квартиру, пока Лола готовила обед, а я думал о своем доме, о тех квартирах, где я жил, как беглец, в последние десять лет, не имея ничего, кроме магнитолы, нескольких книг, кассет, чемодана, позаимствованного у кого-то для переезда и не возвращенного, и дорожной сумки. Это были неуютные и необжитые, как гостиничные номера, квартиры – без картин на стенах и вставленных в рамку фотографий на сервантах, без таблички с моим именем под глазком двери: целые здания, населенные одинокими людьми, супружескими парами с собакой как максимум. Тонкие перегородки, пропускающие шум, но изолирующие человека, как в тибетском монастыре. Человек умирает от сердечного приступа перед телевизором, и его труп обнаруживают не скорее чем если бы он затерялся в австралийской пустыне.