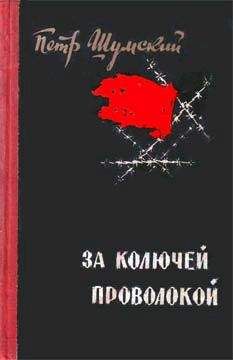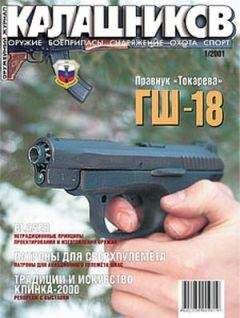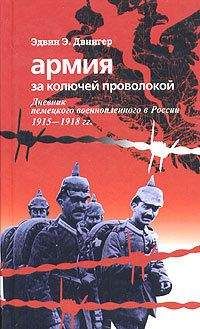Леонид Билунов - Три жизни. Роман-хроника
Вскоре стал и я свидетелем одной его попытки побега. Бежать он решил не один, а с Володей Могилой. Могила был под вышаком, то есть ждал себе вышки, и бежать ему было в самый раз.
История его была такая. Однажды в лагере Володя сильно порезал руку в рабочей зоне. Истекая кровью, пошел он в медчасть. На беду, на КПП рабочей зоны стоял мусор Полторацкий, к тому же в тот день вдупель пьяный.
— Пусти в медчасть! — попросил Могила. Это было его право.
А тот ответил грязным матом:
— А пошел ты на … Пидар гнойный!
И ответил это при других заключенных, которые сразу посмотрели на него как на покойника. На такое оскорбление нельзя не ответить. Если бы Могила промолчал, его лагерная жизнь была бы после этого просто ужасной. Это значило бы, что он признал, что тот прав.
Даже мусора сказали Полторацкому:
— Смотри, оскорбил ты его не на шутку. А главное, слышали другие. Ему житья в лагере не будет, и он тебе этого так не оставит. Мы тебе советуем: переведись в другой лагерь!
Полторацкий, уверенный в своей силе, рассмеялся.
Могила написал хозяину заявление, чтобы Полторацкого убрали из лагеря, а то последствия могут быть очень печальные. Администрация не среагировала, и Полторацкий остался. Как-то он вышел в вечернюю смену в рабочую зону. Напару с другим ключником, уже знакомым нам Крысой, обходили они зону. Шел мелкий дождь, оба были в плащ-палатках. Могила работал в инструментальном цехе, где делал очередную форму для штамповочного, цеха, острым шабером убирал заусенцы. К нему сзади подошел Полторацкий:
— Ну что, точишь? — спросил он, что было новым издевательством: он и так видел, что делает Могила.
Володя резко повернулся и двумя руками с силой вогнал ему шабер прямо в сердце, навылет. Крыса Погонин, шестидесятилетний мусор, постоянно плакавшийся на свой радикулит, подхватил плащ-палатку, сорвался с места как молодая лань и в секунду был таков. Забегая вперед, скажу, что даже Верховный суд не утвердил вышку Володе Могиле, заменил на двадцатку.
Но тогда он этого не знал и решил свалить вместе с Костей.
Вечером в четверг Костя и Могила замастырили себе чесотку. Делается это так. Очень тонкой иголкой арестант накалывает себе между пальцами рук и в паху тоненькие точки, а потом натирает их солью. Под утро начинается страшный зуд, и все признаки чесотки налицо. А чесотка — это опасное эпидемическое заболевание, и больных тут же отправляют в медицинский изолятор, пока не заразили всю тюрьму.
Утром прибегает встревоженный лепила и с ним корпусной.
— Всем раздеться!
Естественно, Костю и Могилу отводят в сторону, чтобы кинуть в изолятор, чего они и добивались.
Из изолятора, который ближе к колючке, наметили они сделать подкоп. Да и мусора навещать их не будут, чесотку подхватить никому неохота.
Но надо же такому случиться, чтобы при осмотре нашелся еще один чесоточник — и настоящий! Молодой украинец по кличке Панько, который вообще сюда попал, считай, случайно и очень надеялся получить чепуховый срок. В изоляторе Панько с ужасом смотрел, как Могила с Костей по очереди рыли землю под нижней шконкой. Они уже ушли довольно далеко, когда Костя заметил это.
— Слушай, Могила, хлопнуть бы надо его! — предложил Костя. — А то ведь он нас сдаст мусорам.
— Да нэ, я нэ буду! — испугался Панько. — Богом клянусь, я никому нэ скажу!
Он долго плакал и все порывался встать на колени.
— Ладно, пусть живет, — сказал Могила. — Если что, я его потом всегда найду.
На следующий день, только всех вывели в коридор на оправку, Панько сорвался с места и, размахивая руками, бросился бежать вдоль камер.
— Караул! Побег! Замовляю про побег!
Когда мусора били Костю ногами, Костя сказал:
— Да вы не меня бейте, Могилу мните, он молодой, бля, здоровый! Выдержит, паскуда!
С такой любовью это было сказано, что мусора рассмеялись и стали бить Могилу, но без сердца.
Костя часто ко мне подходил.
— Я много чего могу рассказать, Федорыч, — сказал он мне однажды. — Но была со мной одна невероятная история, которая вряд ли с кем другим могла приключиться. Хочешь, я расскажу, как я с одним штымпом[53] засухарился?
— А ну, расскажи, — согласился я.
Засухариться — значит обменяться фамилией, то есть биографией и сроком с другим арестантом. Дальше передаю рассказ его словами.
— Пришел я тогда в Централ (центральная Вологодская пересылка), — начал Костя. — Попал в отстойник. Потом отправили меня в хату человек на восемьдесят. Ну, кого-то там уже опускают,[54] кто-то шпиляет в стиры,[55] самодельные, конечно, но лучше сделанные, чем другие настоящие, кто подкрепляется, как я, например. Я шел тогда на крытую, с четвертаком по рукам, ногам и рогам.[56] Правда, по рогам — до этого мало кто доживает, уходит на два метра.[57] Я сразу начал думать, как бы мне бы с кем засухариться.
Хожу по отстойнику и кричу своим громким голосом:
— Эй, братва, бродяги, ну кто поменяется со мной? Кто хочет взять на себя ношу мою неподъемную? У кого хватит подштанников?
Хожу так день, два, три, а сам не верю — ну кто же согласится со мной поменяться? Дальше-то дело несложное, главное, нужно держаться новой кликухи, и все. Конечно, за каждым идет его дело, и там разные полосы: красная — склонен к побегу, синяя — к сопротивлению конвою, и так далее, а у меня там целая радуга разных цветов, но фотка раньше была крошечная, три на три или как там? На документ. Да и кто их тогда в тюрьмах делал? Короче, узнать по-настоящему никого не узнаешь.
— У кого, — кричу, — братва, есть сильные подтяжки для штанов, чтобы мое говно не вывалилось?
Братва, что называется, молчит себе в тряпочку. Я же не скрываю, что ношу имею непосильную, так что кому охота? И настолько я уже был уверен, что никто не откликнется, что, грустно садясь на свою невеселую шконку на третий день вечером, был не на шутку испуган, когда услышал голос какого-то придурка. Иначе никак не мог его назвать: кто бы другой решился взять на себя мой тяжеловоз?
Подходит. Задает вопрос:
— Кто засухариться-то хотел, братва?
Смотрю, штымп средних лет, заточка[58] вроде не хозяйская. Но росту маленького, почти как у меня.
— Не ты ли ищешь засухариться? — спрашивает.
Конечно, это я, да кто же на меня согласится? Мне неважно, что у него за душой, мне-то что, мне разницы нету, хуже, чем у меня, быть не может, по нашим гуманным советским законам зеленочников-то[59] тут в Централе нету. Тогда как раз вышак отменили, чтобы, конечно, потом опять восстановить. В заботе о нас!