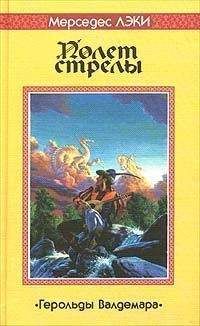Путь стрелы - Полянская Ирина Николаевна
Любе бы ответить с холодком: благодарствую, мол, с наживой дело обстоит клево, а об государстве пусть у тех голова болит, кто его выдумал, — и оставить Таню с раззяванной варежкой, рассыпая по коридору дробное независимое цоканье «Саламандры» в облаке «Диориссимо», но вместо этих заготовленных слов Люба выдавливала кислую соглашательскую улыбочку, и духи ее мгновенно прокисали в душной ауре Таниного праведного гнева. Не получалось царственно проплыть облаком, облако припечатывала половая тряпка.
Вторая сестричка, Ася, работала в больнице больше всех, уже лет пятнадцать. Если для Любы медицинский халат был чем-то вроде маскарадного костюма, всегда коротенький и, насколько позволяла униформа, нарядный, то Ася была закована в него, как в ледяную броню. Во время обхода Ася с каменным лицом сопровождала врача, строго держала в руках кипу историй болезни, но еще более строго держала дистанцию между собой и врачом, с одной стороны, и между собой и больными — с другой. Ее гладкое востроносое лицо говорило: я буду делать ровно столько, сколько положено, и ни на йоту больше, никаких таких душевных контактов, никаких звонков по служебному телефону, идите звоните из автомата на первом этаже; выслушав отповедь, больной ковылял по стенке обратно в палату, ясно было, что на первый этаж ему не сползти. Поэтому больные ее не любили, хотя Ася с первого раза попадала в самые тонкие вены. Ася была неразговорчива, но любила подкалывать сотрудников, хотя терпеть не могла, если вышучивали ее. Глазастая, она замечала, что Люба вколола больной вместо положенных трех кубиков морфия полтора, но ничего не говорила, приберегала до поры до времени козырь. Свое наблюдение она сохраняла на потом — когда Люба будет иметь неосторожность чем-то ее задеть или откажется подменить, — чтобы ввести лошадиную дозу инъекции обидчице. К Тане Ася относилась как и ко всем: тьфу, никак. Ее не угнетали припадки Таниной раздражительности, а, напротив, веселили.
В сестринской днями напролет разговаривала радиоточка. В восемь часов вечера Таня прибавляла звук и слушала свою любимую передачу «Служу Советскому Союзу». Ася в это время стерилизовала шприцы в автоклаве, а наш корреспондент, побывавший в гостях у воинов Б-ской части, говорил, заходясь детским восторгом: «Владимир, вот вы молодой командир, немногим старше своих солдат... Как — есть чувство, что вы немного отец этим ребятам?» «Немного есть», — уныло соглашался Владимир.
— Да уж, — не верила Ася. — Уж прям уж.
— Что вы все такие ядовитые? — вдруг яростно схватывалась Таня. — Ни во что хорошее не верите, все, по-вашему, не так, все не нравится, не понимаю я этого!
— Чего ж ты не понимаешь? — как бы рассеянно спрашивала Ася.
— А вот этого, ухмылочек ваших. Государство к вам со всей душой...
— А мы к нему с кривыми ногами...
— А вы ему что? Вы ему ухмылочки, анекдоты!
— Тань, я ничего такого не сказала.
— А чего ухмыляться? Человек выступает не от себя, от государства, которое он защищает, а ты хихикаешь. Собрать бы вас да отправить к чертовой матери в Америку, задрыгали бы ножками, а то все им не нравится, кофты им подавай из «Березки», одеколоны из Парижа. А кормит тебя не Париж, а наше государство.
— Так я ж работаю.
— Правильно, за работу ты зарплату получаешь, ради нее и вкалываешь, а ни во что не веришь.
И Таня, точно прося у кого-то прощения за душевную черствость подруги, нежно брала в руки репродуктор, приглушала от Аси звук и демонстративно прикладывала к ранам души своей ясный, правдивый, родной голос радиоточки. А вокруг нее звучали совсем другие голоса и другие чувства; корысть и злоба дребезжали в них, будто человека всего трясло.
А Ася ласково улыбалась ярко накрашенным ртом, ее выпуклые губы походили на резиновый потрескавшийся шланг капельницы.
Третья сестричка, Надя, так мало еще прожила на свете и так много прочитала книг, что любила всех, в том числе и Таню.
Надя любила ночные дежурства, охотно подменяла всякого, кто просил ее об этом, и на своем посту посередине больничного коридора безотрывно читала, читала день и ночь, не слыша плещущихся в двух шагах от нее бредовых видений, не видя теней, скользящих по самому карнизу жизни в четвертом часу утра.
Где-то она прочитала, что на просторах человеческой души, если их не заполнить хрустальными замками, шелестящими страницами, музыкой, любимым делом, начинают сами собой вырастать какие-то монстры, жесткие конструкции, то тут, то там вспарывающие своими уродливыми углами душу, которая съеживается и беспрепятственно зарастает мускулистым сорняком, влажными очагами сельвы. Надя — единственная, кто пытался вникнуть в духовную жизнь Тани, но она так ничего и не обнаружила там, кроме прочитанных в детстве «Тома Сойера», «Сестры Керри», уже затянувшихся паутиной, да двух-трех фильмов, растрогавших Таню. Уже много позже, после случившейся трагедии, она очень жалела, что ей не хватило внимания и душевности, винила себя, подруг, хотя что тут можно было сделать? Прочитать Тане вслух «Мцыри»? сводить на выставку молодых художников? в консерваторию? Надя отступила, занялась собственными сорняками и собственными зияющими безднами в образовании, в чем, надо полагать, со временем преуспела, ведь она всякому делу привыкла отдаваться сполна.
Таня работала всегда на полторы ставки. Брала еще две палаты, отвозила в санэпидстанцию анализы, замещала сестру-хозяйку. Один раз ее видели плачущей: сестра-хозяйка, такая же дюжая баба, как и Таня, требовала возместить стоимость пропавших полотенец в размере двадцати трех рублей. У Тани было туго с деньгами, об этом все знали, и Надя предложила скинуться и помочь подруге, ее не поддержали. Наде сказали: она никого не жалеет, нечего ее жалеть. Надя возразила: так нельзя, вы ее разок пожалейте, увидите — она тоже смягчится и станет жалеть людей. Люба с холодностью, которую ей так и не удалось реализовать в разговоре с Таней, спросила Надю: «Тебе сколько годков?.. Ясненько. Вот подрасти малость, поработай, например, с мое, поживи на свете — другую песенку затянешь». Надя принесла Тане десятку, но та цыкнула на нее, свирепо повела глазами и деньги не взяла.
Сначала думали: она отыгрывается на работе, а дома совсем другая, — но вскоре выяснилось, что и дома Таня точно такая же. Про мужа ее ничего не слыхали. У нее были две дочери, пятнадцати и десяти лет, мать-старуха, которой, судя по всему, доставалось от Тани больше всех. Находясь в хорошем настроении, Таня с лающим смешком, похожим на сдавленное рыдание, любила порассказывать про мать: пенсию, глупая, не сумела выработать, поскольку пахала то тут, то там, теряя справки, и теперь висит на Таниной шее, стараясь повернуть дело так, что она не висит на шее, а приносит пользу, ест нарочно один хлеб и, сколько Таня ни ругает ее, чай пьет без сахара, то и дело водит младшую внучку, косенькую Ингу, по окулистам и устраивает врачам сцены: один раз даже встала перед доцентом на колени, умоляя вылечить девочкино косоглазие. Как-то Наде удалось побывать у Тани в гостях, и потом она рассказывала, что Татьяна орет на дочек таким нутряным криком, что можно оглохнуть, но Люда, старшая, и глазом не ведет, а Инга заходится в тихом плаче, и бабушка тоже кричит на Таню и топает ногами, и это был ад. Надя еле ноги унесла. На следующий день Таня, в свою очередь пересказывая все это, опять ругала мать, называя ее старой паршивкой, и Люба, застигнутая ее исповедью, загнанная в угол сестринской, испуганно причмокивала, стараясь сочувствовать Тане мимикой лица.
Однажды Таня пришла тихая и поблекшая, перемыла везде полы, вытерла пыль, протерла мокрой тряпкой стены, сняла паутину с лепного потолка под лестницей, пошла в столовую, помогла девочкам перемыть посуду, а потом раздала всему персоналу по конфетке и печеньицу, сказав, что она похоронила маму. Все ей сочувствовали. Надя снова предложила скинуться, и на этот раз с нею согласились, но Таня от денег наотрез отказалась, а уже через три-четыре дня вошла в прежнее раздраженное состояние и так набросилась на сына Зои Григорьевны, упрекая его в том, что он кинул родную мать подыхать в богадельне, что тот с трясущимися губами пошел объясняться к завотделением, которая ему объяснила, что у санитарки недавно умерла мать, потому она и срывает горе на первом встречном, что можно по-человечески понять.

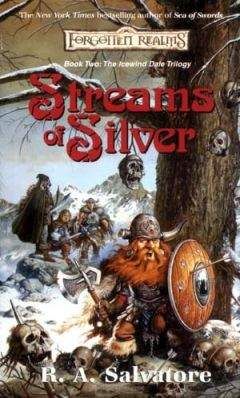
![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](/uploads/posts/books/66682/66682.jpg)