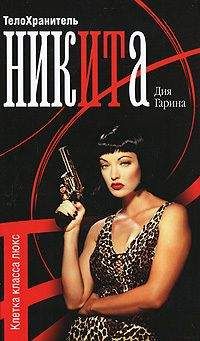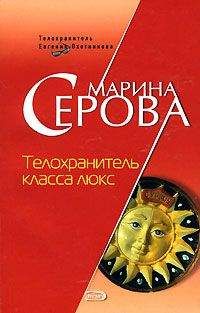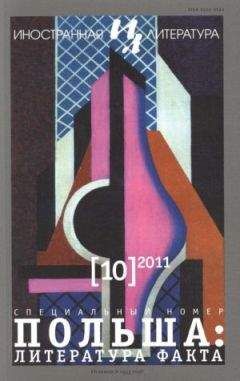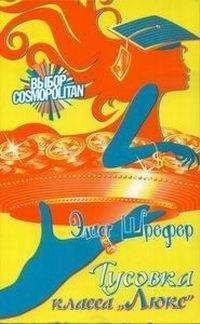Якоб Бургиу - За тридевять земель...
– Может, ты и прав, дедушка, только скажу тебе, что в моей ссоре с отцом нет никакого интереса, – повернул я на свое.
Старик задумчиво выпустил дым и со вниманием скосился на меня. Потом сказал:
– Есть, есть интерес. Большой интерес. Это ведь борьба. Ты и его кровь, и не его.
Последних слов я не понял, но задал новый вопрос:
– Кто же победит, по-твоему?
– Терпение… Терпение, сынок. Надвинь шапку, затяни пояс и терпи. – Он снова выпустил клуб дыма и загляделся на вершину старой черешни. – Возьми хоть это дерево. Что оно вытерпело, пока дождалось первых плодов! И осенние дожди, и холодные ветра, и зимние метели, а еще хуже – бесснежные зимы, и зной, и засуху… И того доброго человека, который выкопал где-то саженец и посадил здесь. И того злобного дурака, который очищал об него подошвы своих сапог. И добро и зло вынесло оно, лишь бы дожить до плодов…
Красиво и умно говорил старик. Но дерево это только дерево, а человек – это человек. И о каком терпении может идти речь, когда до вступительных экзаменов осталось два дня: завтра и послезавтра. Этак если всю жизнь терпеть, так и свихнуться можно, ей-богу.
В волнении простившись с дедом Фэнелом, я отправился домой Я был готов высказать отцу начистоту все, что думаю И если ссориться – то сейчас, тут же, в под ночь. И пусть он выходит из себя, топчет святыни, преступает закон…
Отец и мама спали вполглаза, молча следя за тем, как я вхожу, зажигаю лампу и валюсь одетый на постель.
– Эй, Костэкел! – подал голос отец.
Я закрыл глаза, притворяясь, что сплю.
– Эй, Костэкел, слышишь меня? – спросил отец таким добрым голосом, словно хотел сообщить долгожданную весть.
– Что такое? – неохотно отозвался я.
– Хорошо, что ты не разделся. Принеси-ка ведро воды, а то мама поставила тесто и к утру должен быть хлеб.
– Не пойду, – пробормотал я сердито и дерзко отвернулся: ходи, мол, с козыря.
– Это почему же?
– Потому что не пойду. Я сплю, ясно? Отчего до сих пор сами не принесли? Колодец во дворе, до Валя Адынкэ бежать не надо. Или вам наша вода нехороша?
– Хороша. Только надо, чтобы ты ее освятил.
– Это не по моей части. Я вам не батюшка. Ты сам у нас и поп и хозяин. А мне как-то не к лицу подсиживать тебя.
– Да?
– Да. Спокойной ночи, отец.
– Пропади пропадом та долина, где я тебя нашел! – взорвался он, скидывая одеяло. – Я тебе покажу спокойную ночь! Я тебе покажу попа! Зарежу!… Топор!
Я вылетел за дверь, как подхваченный ветром. Молния и та не догнала бы меня.
Отец не стал одеваться. Как был в портках и нательной рубахе, опрометью кинулся с печи. Под навесом он едва не сцапал меня за ворот, но зацепился за рога плуга, оборвал ноготь на ноге и, зашипев от боли, остановился.
Стал и я, ожидая, что будет дальше. Может, теперь он успокоится и заговорит со мной по-человечески.
Однако боль только раззадорила его.
– Ну, Костэкел, держись, – пригрозил он. – Хоть до утра бегай, я тебя достану. Будет тебе крещение! – И неожиданно бросился вперед.
– Топор! – сам не знаю почему, вскричал я и припустил со всех ног по улице – к клубу, к сельсовету. Хоть бы услышал нас кто, хоть бы остановил отца. Как назло, вокруг ни души. Ни одно окно не светилось, ни одна собака не лаяла. Только луна и тучи на небе, только рытвины и заборы, только темные берега страха и жужжание ночных жуков…
Отец, видя, что не может меня настигнуть, снова остановился.
– Все равно поймаю, – пообещал он. – Вот отдышусь маленько, и капут тебе.
Я в нерешительности оглядывался вокруг, и он не стал мешкать: не иначе как зарубить меня надумал. Я летел вперед изо всех сил. Счастье еще, что луна по временам выглядывала из-за туч и освещала мне дорогу.
– Топор! – снова и снова вопил я и бежал так, что пятки сверкали.
Еще у ворот я хорошо разглядел, что руки отца пусты, однако топор не выходил у меня из головы. И вдруг пришло ко мне решение, и радостью наполнилось мое сердце. Я смекнул, как разрубить отцовский узел, как оседлать отцовских коней. Я сыграю роль. И он поверит, и испугается, потому что собственной рукой привел меня к этой решительной минуте…
Итак, решено. Я – безумен!
А отец даже не подозревал, к какой пропасти мы несемся. В полосах света и тьмы, прихрамывая и переводя дух, он несколько раз обежал за мной вокруг клуба, потом вокруг сельсовета, потом с бранью погнал меня к пруду. Мы с грохотом пролетели по хлипким мосткам и теперь неслись по дороге, что поднималась на холм, к старой церкви. Он надеялся схватить меня у святых стен. По временам он останавливался, чтобы справиться с одышкой, и тогда я кричал ему в лицо все то же страшное слово на тех же бредовых нотах.
Я так быстро сжился со своей ролью, что возле церкви мне и впрямь вдруг померещилось, что в руке отца блеснуло под лучом луны лезвие топора, и ледяная струя окатила мое сердце. Потом снова стало жарко, но ослабли ноги.
– То-по-о-ор! – с трудом выдавил я, преодолевая беспамятство, и, уж не помню как, перевалился через высокую ограду, окружавшую церковь. Храм, окруженный грозными тенями, высился в пустоте. Из-под штукатурки ползли багровые кирпичные пятна.
– Костэкел, сыночек, – раздался из-за стены дрожащий голос отца. – Не бойся, нет у меня ничего, ничего нет…
Медленно, чтобы не напугать меня, он отыскал пролом в ограде и, забравшись внутрь, протянул ко мне руки.
– Смотри, ничего нет… Никакого топора… Заврался я, грешный человек, перегнул палку. Но это только слова, поверь. У меня и в мыслях злодейства не было. Ты ведь, хоть и проказник, все равно плоть моя, души моей кусок, боль и радость моя…
Сломленный и побежденный, стоял он передо мной. Его руки дрожали, в голосе звенели слезы. Он, казалось,, искал слов, которые помогли бы ему снять с моего разума бремя, наложенное его собственной рукой. В его глазах, отражавших свет бегущей луны, я читал признание в том, что он отдал бы всю свою жизнь, лишь бы очистить совесть от греха передо мной. Он ведь и раньше желал мне только добра, и теперь думал лишь о том, чтобы любой ценой остановить беду, лишившую меня рассудка. С тяжелым вздохом опустился он на колени. Возвел взор к пустой церковной маковке и, широко перекрестившись, молвил:
– Видит бог, я от всего сердца…
Искоса поглядывая на него, я не мог удержаться от жалости. Мой отец стоял предо мной на коленях, а я глумился над ним. Но отступать было поздно. Заварил кашу, так и молока не жалей. Если я признаюсь, что водил его за нос, он умрет от обиды. И к тому же, как ни хотелось мне верить его клятве, ночь все еще оставалась ночью – густым серебряным ситом, и злые мысли сыпались на нас вперемешку с добрыми. Даже луна не могла успокоиться: то выглядывала из-за туч, то снова пряталась.
Да бес его знает! Может, это вовсе не я отца, a он меня водит за нос. Может, он еще дома задумал все это, а теперь готовится прихлопнуть меня. Ему не впервой!
Страх попасться в ловушку заставил меня снова закричать и броситься наутек. Береженого бог бережет.
Недалеко отбежав, я резко свернул в тень высокого ореха и затаился в ожидании. Придет или нет? И если придет, то с каким примирительным словом? Погода была теплая, но я дрожал всем телом. Сердце мое то уносилось в пятки, то рвалось из груди, чтобы припасть к отцовской руке.
Он поднялся с земли, будто хотел пуститься за мной вдогонку, но остался стоять, то погружаясь во тьму, то озаряясь обильным лунным светом, согбенный, покорившийся, измученный усталостью и скорбью. Он оглянулся назад, на долину, где ждала нас у зажженной лампы мама. Помешкав некоторое время и бросив взгляд на ограду, словно ища хоть какой-то опоры, мой отец, тяжело ступая на ушибленную ногу, повернул обратно.
Боль гонит человека из дому, боль возвращает его домой. Даже если она стала так велика, что он уже не вмещается с ней ни в каса маре, ни во двор.
Я пошел следом, не сводя с него глаз. Больше всего мне в эти минуты хотелось превратиться в дорогу, чтобы он не споткнулся и не упал. Небо на востоке просветлело, и луна белым тяжелым камнем легла на плечи отца, придавливая его к земле.
Так шаг за шагом, помогая ему издали сердцем и взглядом, в тени деревьев, крадучись под ветвями сирени, под покосившимися черными заборами, я проводил отца домой. Мама с порога о чем-то спросила его, но он, как будто не слыша, молча прошел в комнаты. Ахнув, мама бросилась за ним. И еще долго видел я ее тень в горящем огне. Она была как солнышко, осыпающее хлопья света – света и любви.
Я наблюдал за ней издали, забравшись в стог сена под навесом, оставшийся здесь с прошлого года рядом с плугом и бороной. Эти безмолвные хлопья света и доносившиеся из окна обрывки слов, произнесенных ее теплым голосом, согревали и успокаивали меня. И постепенно мною овладел сон и унес меня далеко-далеко, за тридевять земель, к первым стихам новогодней колядки…
Главная площадь какого-то города. Вроде и знакомая, а вроде чужая. С памятником в центре, с большими круглыми часами, вделанными в триумфальную арку, с небом, разделенным на две половины. Одна, восточная, освещена луной и звездами, другая, западная, укрыта темными тучами. Из туч валит снег, крупный, тихий. Ни дуновения ветра, ни гудения машин, ни человеческих голосов лишь изредка позвякивают, как колокольчики, колеса больничной каталки, на которой лежу я и которую катят четыре человека, одетых в белые мантии с высокими воротниками, скрывающими лица. Их шаги так гулко отлаются что чудится рев бугая в ночь под Новый год. И я в двух лицах. Один «я», почти бездыханный, покоюсь на каталке. Другой «я» – иду в хвосте процессии. Возле триумфальной арки я, каталочный, тяжело отрываю голову от белоснежной подушки и ищу взглядом себя, идущего вслед. Я размыкаю спекшиеся губы и хочу сказать ему что-то очень важное, хочу поведать ему о какой-то муке, о боли, смешанной с радостью, дать совет… но мне не хватает духу, и слов не слышно. Кортеж движется дальше, и что-то становится почти понятным мне, но в этот миг рука одного из тех, кто катит каталку, звонко щелкает невидимым бичом, и я бессильно опускаю голову в подушку, а меня утешают то ли песней, то ли обрывком колядки: