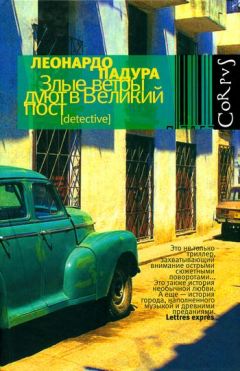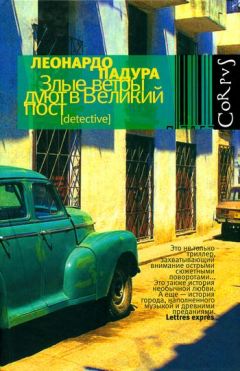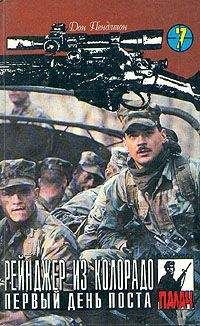Пётр Черский - Отец уходит. Минироман
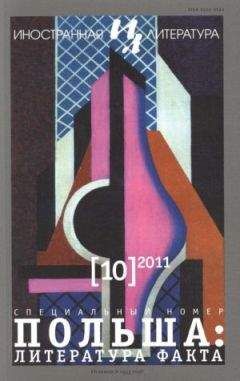
Обзор книги Пётр Черский - Отец уходит. Минироман
Черский П. Отец уходит. Минироман
1
Начинается все это накануне моего двадцать четвертого дня рождения. Итак, сегодня 31 марта 2005 года; вечер, мы в Гдыни, в переулке между двумя оживленными улицами, стоим прямо рядом с «Аркадией» и пьем водку. «Аркадия» — кабак, который мы недавно обнаружили: кажется, при коммунистах это был ресторан класса люкс, так, по крайней мере, утверждает моя мать. С тех пор ровным счетом ничего не изменилось. Внутри. Это уже не ресторан класса люкс, а скорее трогательный скансен. Сейчас вообще такая тенденция, ПНР в моде, радикальные интеллектуалы более-менее скрытно тоскуют по временам вынужденного скромного существования, предшествовавшего нынешнему изобилию, а молодежь коллекционирует всякие раритеты: авторучки, блокноты, галстуки, партийные билеты. И пьет водку, закусывая огурчиками, на тематических вечерах, где диджеи в костюмах социалистической эпохи крутят попурри советских песен. В Варшаве даже открыли специальный клуб, стилизованный под пээнэровское предприятие общественного питания, — впрочем, возможно не в Варшаве, а в Познани, и не клуб, а дискотеку, и не под общепит, а под дансинг. Я уже давно где-то об этом читал и мог перепутать. Хотя подозреваю, что в Варшаве, да, точно, в Варшаве. Но мы между тем в Гдыни, возле «Аркадии», которая не какая-то там стилизованная рыгаловка, а самый что ни на есть настоящий пээнэровский кабак, поделенный на две части: в одной танцуют (по четвергам там стриптиз), а в другой — пивной зал, без стриптиза, зато с дармовым хлебом со смальцем. Между двумя этими мирами общий туалет, куда ведут крутые ступеньки, застланные красной ковровой дорожкой, которая чем ниже, тем грязнее, — а внизу, за фанерным столиком, оклеенным пленкой под дерево (модель 76), сидит пани Ядя в голубой кофточке, решает кроссворды и монотонно напоминает спускающимся: «Туалет платный, пятьдесят грошей». И все безропотно платят — старшеклассники, студенты и рабочие судоверфи, никто другой в «Аркадию» не ходит.
Стоим мы, значит, вечером в Гдыне, в переулке, и пьем за мое здоровье. Мы, то есть Аля, моя девушка — с недавних пор правда, познакомились мы, кажется, неделю назад, — и Анджей, мой друг еще со времен лицея, который нервно поглядывает на часы, потому что без пяти восемь должен встречать на вокзале Ольгу. Ольга живет в Лодзи, она еврейка, хотя вообще-то нет. Еврейкой она была бы, если б ее мать была еврейка, но это не так; еврей у Ольги отец, так что на самом деле никакая она не еврейка. И все-таки еврейка, потому что состоит в каких-то еврейских молодежных организациях. Вообще-то, кажется, почти все молодые евреи в Польше — евреи по отцу, деду или одноклассникам, но что поделаешь, если других нету? Рядом с Алей, значит, стоит Анджей, а дальше Кацпер и Бартош (мы вместе учимся на философском), Войцех, который уже часа три талдычит, что ему пора уходить, потому как выпускные экзамены на носу, а он еще учебника не открывал, и Михал. Михал учился в одном классе с Войцехом, но сейчас живет в Люксембурге, потому что его отец работает в какой-то европейской организации, где занимает ответственный пост и получает кучу денег. Поэтому вся семья перебралась в Европу, а здесь у них осталась шикарная квартира, куда Михал несколько раз в году приезжает. И еще тут стою я, между Алей и Михалом, и разливаю водку по пластиковым стаканчикам, думая о том, что мне тепло и хорошо, хотя завтра утром я уезжаю на три месяца в Краков, где получил в университете стипендию, а собраться еще не успел, так как всю последнюю неделю отчаянно пытался раскидать кучу дел, в которых погряз, но вся эта суета ничего не дала, потому что, когда делаешь десять дел одновременно, ни с одним не справляешься, а сейчас уже около восьми, я поддатый, раньше полуночи домой не вернусь, когда же собираться, о том, чтобы выспаться, я и не мечтаю, а еще надо позвонить туда и туда, и туда, и вообще давно уже все происходит чересчур быстро. И тут вдруг кто-то спрашивает: «Как думаете, Папа на этот раз правда умирает?»
«На этот раз да, на этот раз правда умирает», — неожиданно для самого себя отвечаю я. Раньше я об этом не задумывался. Всерьез не задумывался, хотя мне и случалось говорить: «Думаю, дни Иоанна Павла Второго сочтены, ему уже немного осталось», или: «Интересно, как польская церковь переживет смерть Папы», или еще что-то в этом роде, что обычно говоришь, сидя за кружкой пива с Анджеем или с Петром, который преподает физику в университете, или с Павлом — он закончил польскую филологию, но работает программистом, — или с Кацпером, Бартошем, Басей-журналисткой, Шимоном-поэтом. О чем говорить, когда цены на квартиры и условия кредитования уже обсудили, а черед партизанских баек о лихих временах еще не настал? Итак, кончина Папы уже давно предрешена и каждый свое мнение высказал, на этот счет царит всеобщее согласие, известны даже последствия: мол, Рыдзык [1], мол, епископат, мол, напряжение в обществе, призрак схизмы… — и все же вопрос «На этот раз умирает?» прозвучал по-новому, как будто тема совершенно новая. Может быть, из-за слов «на этот раз» — всегда ведь говорили только «умрет», а не «умирает», — а может, из-за водки. Так или иначе, я слышу собственный голос со стороны, как будто не я сказал: «Да, на этот раз правда умирает», а кто-то другой, — но никто другой этого сказать не мог, потому что настала тишина и в ней мне слышится: «Умирает, да, на этот раз умирает» — и звук этот скользит по стенам домов, ползет по тротуару. Я поспешно разливаю остатки водки: «Ну, по последней, — говорю. — По последней!» — и поднимаю стаканчик, а потом Анджей идет на вокзал, Войцех, Бартош и Кацпер— на автобусную остановку, а мы с Алей и Михалом — в клуб на концерт.
Внутри жарко, слишком жарко, определенно слишком жарко. С трудом находим место — хорошо хоть недалеко от двери. Я стою и смотрю на сцену, одной рукой обнимая Алю, и вдруг что-то капает мне на руку, через минуту опять, а затем на голову. Смотрю вверх и вижу: потолок блестит от пота, капли срываются и падают вниз, на скопление тел. Сколько народу может поместиться в этом клубе? Сотни три, максимум четыре, а впустили не меньше полутысячи, если не больше. Человек на человеке; горящий кончик моей сигареты подрагивает в опасной близости от дредов стоящего передо мной парня, а на мой локоть постоянно натыкается девушка, которая смешно дергается рядом, с закрытыми глазами подпевая вокалисту. Михал продирается к нам с очередными кружками пива, но тут я теряю равновесие; в последнюю секунду мне удается, изогнувшись, перенести центр тяжести на другую ногу — иначе я наверняка бы упал, а падая, потянул кого-нибудь за собой, и через минуту мы все бы уже лежали, по-идиотски болтая руками и ногами, как перевернувшиеся на спину жуки. Я не раз видел подобное: если в такой толчее кто-то падает и увлекает за собой другого, третьего, образуется мгновенно расширяющийся водоворот, затягивающий всех вокруг; головы внезапно исчезают из поля зрения, и сам виновник, не успев ничего сообразить, уже лежит на земле, придавленный одними и придавливая других. И все лежат, как прибитые резким порывом ветра хлеба, и пытаются найти точку опоры, и друг другу мешают, и только когда кто-нибудь, приложив нечеловеческие усилия, оторвется от земли, встанет и подаст руку лежащему рядом — тогда только можно будет подняться, отряхнуться, растереть саднящее колено, ощупать шишку на лбу, перевести дух.
Анджей с Ольгой приходят, когда мы допиваем вторую кружку — это здесь вторую, а какую вообще в эту ночь? пятую? а может, шестую? Мы уже наверху, убежали из этого столпотворения. Слышно отсюда немного, но зато можно дышать. И есть бар. «Привет, Ольга!» — кричу я и обнимаю ее, потому что, наквасившись, становлюсь сентиментален и любвеобилен. «Привет, привет, — говорит она. — Послушайте, скажите мне, а то я пару часов была в дороге, знает кто-нибудь, как Папа?» Михал отвечает: «Не знаю, я его сегодня не видел», — но никто не смеется. «Он умирает, — говорю я, — но, кажется, еще жив. Если б умер, мне бы, наверно, сообщили, эсэмэской или еще как-нибудь. Хотя, погоди… — Я поворачиваюсь к какой-то девушке, стоящей неподалеку: — Извини, ты, случайно, не знаешь, как Папа?» Она смотрит на меня, будто не поняла вопроса: «Не знаю, а что?» Я повторяю ее «не знаю» Ольге — вероятно, впустую. Даже здесь, наверху, так шумно, что собственные мысли расслышать трудно, пропадают они в этом шуме. А потом я обнимаю за плечи Алю, которая поворачивает голову, улыбается и целует меня в губы. И, похоже, засыпаю.
Полночь, я блюю около торговых рядов. Не знаю, где все наши, не помню, как сюда попал. Принято так говорить: «Не помню, как я сюда попал», — но я правда не помню, в голове какие-то ошметки воспоминаний: откуда-то вышел, прошел мимо какой-то автобусной остановки, с кем-то разговаривал… А сейчас у меня болят горло и нос, где-то внутри, сильно болят, аж отдается в висках. Прислоняюсь к стене, осматриваюсь: вдалеке проезжает машина, а здесь, на целой улице, ни души. Опять, думаю, снова-здорово. Вокзал где-то там, справа; можно бы пройти через базар, но лучше его обойти. Базар в эту пору — лабиринт узких улочек, по которым идти надо на цыпочках, прислушиваясь — никогда не известно, на кого наткнешься за ближайшим углом: это может быть полицейский патруль, который пожелает отвезти тебя в вытрезвитель, а возможно, и кто похуже. Собираюсь с силами и отрываюсь от стены — и вскоре я уже на перроне, дует холодный ветер, я глубоко дышу, чтобы подавить рвотный рефлекс; из подземного перехода выходят Михал с Алей. «Где ты был? — спрашивает Аля. — Мы тебя всю дорогу искали, я боялась, ты где-то заснул. Идиот». Я на нее смотрю, стараясь, чтоб в моем взгляде сквозил немой укор. Мол, раньше надо было побеспокоиться. И почему она с Михалом? Интересно, чем они с ним занимались? Теперь я уже не столь сентиментален и любвеобилен, теперь я чувствителен, как вскрытый зуб. И расслабляюсь только в кафе — последнем еще открытом: мы сидим, и Аля платочком стирает какую-то пакость с моей куртки. Время — половина второго, следующая электричка домой — когда? — кажется, через час, хотя сегодня не выходной, может быть, и через два. Бармен высовывается и говорит извиняющимся тоном: «Простите, мы сейчас закрываем», — и тогда я спрашиваю: «Ну что, Михал, едем к тебе?» — «Ясное дело», — отвечает он без энтузиазма. «Предки меня убьют», — говорит Аля, но я не слышу в ее голосе уверенности. Впрочем, мне все равно.