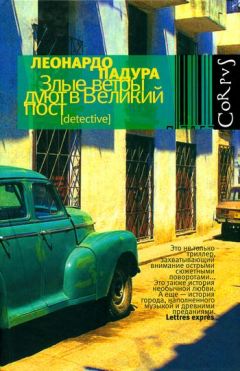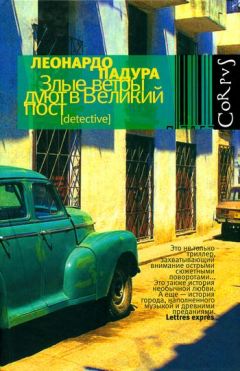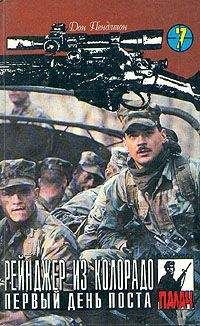Пётр Черский - Отец уходит. Минироман
А вот парень, с которым мы едем в одном купе, наверняка «с виду» никого не знает. Он блондин, только это я и заметил, а вообще как он выглядит, я не знаю, никогда не осмеливался разглядывать незрячих. Они обладают каким-то дополнительным органом чувств, кожа у них ощущает тяжесть чужого взгляда — если посмотришь на такого, даже украдкой, он в какой-то момент ответит на твой взгляд своим невзглядом, и ты, оставшись с глазу на глаз с его бельмами, вынужден посмотреть прямо в глаза пустоте. Тогда тебе становится жутко неловко — чувство необоснованное, но жгучее. Минут за десять до Кракова слепой говорит: «Извините, пожалуйста, как попасть на стоянку такси?» Не просит впрямую: проводите меня, дайте руку, пойдемте со мной. Только спрашивает, очень вежливо, и этот вопрос — экзамен, который никто не сдает. Я читаю газету — смотрю на газетный лист с таким напряжением, что буквы бледнеют, типографская краска трескается и крошится, — а парень и девушка, сидящие напротив, будто язык проглотили, заслушавшись хип-хопом в плейере. Я вижу их только краем глаза, а двоих мужчин, возвращающихся в Краков с работы, вообще не вижу, но все равно знаю, что они с кислыми минами переглядываются: только они и остались, с пустыми руками, защититься нечем. «Где там ближайшая стоянка?» — спрашивает один у другого, и в вопросе этом звучит фальшь. «Стоянка, — медленно тянет второй, с усами, — гм, вроде бы ближайшая прямо у выхода, нет?» — «Да, — говорит тот, что в очках, — рукой подать, два шага по туннелю, потом чуть-чуть повернуть, и все дела. И все дела», — повторяет удовлетворенно, будто здорово выкрутился, ведь второй раз «и все дела» он сказал уже усатому, как бы в продолжение их разговора. Ловко они это разыграли: «Где там стоянка, Метек?» — «Недалеко, рукой подать», — и дело в шляпе, Кшисек теперь знает, Метек указал вопрошающему путь, нормалек. Между тем ни в какой не в шляпе, не удался Кшисеку с Метекем номер, потому что слепой уже напрямую просит: «А вы бы не могли меня проводить, я не уверен, что сам найду». И — тишина, тишина, тишина. «Ну да-а-а-а-а, — говорит наконец усатый очень-очень медленно, — конечно. Можем проводить, это близко, рукой подать, два шага по туннелю и повернуть чуть-чуть». Нажимает на это «чуть-чуть», хватается за спасательный круг. В его «чуть-чуть» вмещается то, что он на самом деле хотел сказать: «Отвали, малый, я спешу. Мне на автобус надо успеть, заскочить по дороге домой в круглосуточный, пива купить, колбаски, Ванда звонила, что колбасы нет». А у меня рта как не бывало, губы слились с кожей лица, срослись, зарубцевались. Ты же не знаешь Кракова, мысленно говорю себе, честно не знаешь, понятия не имеешь, где эта гребаная стоянка, если б знал, помог бы этому пареньку; но ты правда, бля, не знаешь, и, если он тебе скажет, что ему нужно на какую-то там Новогродскую или Новоблядскую, ты даже не сообразишь, куда с ним выходить, налево поворачивать или направо, к тому же тебя уже ждут, в подземном переходе сотовый не берет, потянутся люди с поезда, Марко и Клубень подумают: что-то не так, не смогут тебе дозвониться, уедут домой. И что тебе тогда, с тяжеленным рюкзаком и сумкой, делать, если ты даже не знаешь, куда ехать? И так я себя оправдываю, спешу отпустить себе грех, однако, когда поезд останавливается, не бегу к выходу, жду, пока незрячий выйдет с этими двумя недовольными, пока ребятки, что сидели напротив, приведут себя в порядок и тоже выйдут; только тогда я встаю, беру рюкзак, надеваю куртку, стараюсь не смотреть в зеркало.
Клубень ждет возле киоска, одетый как всегда: широченные штаны и толстовка; по виду больше похож на диджея, чем на известного литературного критика. Таким же он был, когда мы познакомились года три или четыре назад. «Привет, чувак, давай пять, братан! — кричит он. — В жизни не видел, чтобы кто-нибудь приезжал на три месяца с одним рюкзаком!» Даю пять. «Понимаешь, — говорю, — я вчера a conto [6]отмечал день рождения, собирался с бодуна, сам не знаю, что у меня в рюкзаке. Скажи лучше, он еще жив? Жив еще старец?» Клубень головой описывает в воздухе небольшой круг (один из его характерных жестов) с миной, означающей: «понял, знаю, о чем ты, можешь ничего больше не добавлять» — и говорит: «Жив, хотя, кажется, уже в агонии. Только что передавали по радио. Слышь, Черс, тут такое дело, Мартина страшно из-за этого переживает, так что, понимаешь… Не говори при ней ничего такого, ну, сам знаешь». Я киваю: «Не знаю, но догадываюсь». А Клубень продолжает: «Понимаешь, тут, в Кракове, последние пару дней дым коромыслом. Пойдешь на Рынок — сам увидишь. На каждом углу телевизионщики, Польсат, ТеВеПе, ТеВеЭн, ТеВеХ-рен. Так ловко расположились, что друг дружке не мешают и в чужую камеру не попадают, не знаю, договорились, что ли, между собой, во всяком случае, на заднем плане у всех только Рынок и люди, никаких тонвагенов. Правда эпохи, правда экрана, правда и только правда».
В машине все молчат и слушают по радио последние новости. Едем медленно, я верчу головой, гляжу по сторонам — на тротуарах яблоку негде упасть, краковская пятница, город хлынул в центр. «Состояние Иоанна Павла Второго ухудшается, и, хотя сердце и мозг продолжают работать, сейчас уже ясно: нет у Святого Отца надежды»[7], — замогильным голосом сообщает диктор. У Марко вырывается короткий нервный смешок. «Слышали, мать их? — спрашивает он. — Надежды, видите ли, нет, и это о человеке, который всю жизнь говорил о надежде. Нет надежды, ну что несут, кретины!» Я с ним согласен — как тут не согласиться. «Переступить порог надежды. Надежда мира. Господь — надежда наша. Вера, надежда и любовь как три звезды, сверкающие на небосводе духовной жизни». Надежда, надежда, надежда неугасимая — а этот диктор, профессионально модулируя голос соответственно потребностям минуты, выдает наспех придуманную пуэнту: «Нет у Святого Отца надежды!» Марко неодобрительно качает головой, объезжая какого-то пьяного сопляка, который лезет под колеса и вдобавок тащит за собой свою девушку. «Одно я вам скажу, — говорит наконец Марко, — католические издатели теперь заработают миллионы». И это правда.
Мартина ничего не говорит, даже не смотрит по сторонам, только покусывает антенну сотового телефона. Оживляется, лишь когда по радио сообщают, что звонари на Зигмунтовской башне [8]в полной готовности ждут информации о смерти Папы, чтобы раскачать огромную тушу колокола весом одиннадцать тонн, чтобы извлечь из нее звук чистый и печальный, который повиснет над городом, от которого содрогнутся стены и сердца. «Марко, поедем послушать Зигмунта? — спрашивает Мартина. — Я еще никогда не слышала, как звонят. Поедем?» Марко отвечает не сразу, видно, чувствует, что легко не отвертится. «Ладно, постараемся, — говорит он наконец. — Сперва отвезем Черса… хотя, думаю, сегодня не будут звонить. Еще не сегодня, может быть, завтра». Я тоже никогда не слышал звона Зигмунта, только видел когда-то по телевизору документальный фильм «Зигмунтовы ребята» или что-то в этом роде. Звонари — тщательно подобранная группа, есть даже запасные. Каждый добирается до места максимум за пятнадцать минут, достаточно одного телефонного звонка — и среди ночи они вскакивают с постели. Как пожарные. Помню один кадр, снятый снизу: наверху в светлом ореоле величественно раскачивается колокол: «бим-бом, бам-бим-бом, эх, кабы знать, по ком звонит он» [9]. А потом показали звонарей, они говорили, какая большая это честь — звонить в самый главный польский колокол. Я был маленький — сколько мне могло быть? лет восемь, от силы девять, — и подумал тогда, что хочу когда-нибудь стать таким звонарем. Похоже, не бывать тому, думаю я сейчас, представляя себе, как они стоят там, наверху, двенадцать солидных мужчин, ожидая сигнала, затаив дыхание… Сколько им еще стоять в этом тягостном ожидании? Час, два, четыре? Постепенно напряжение начнет спадать… когда же впервые мелькнет мысль: умирание штука долгая, а тут все холоднее, и есть хочется, а утром вставать на работу? Или что-то в этом роде.
(А потом наступил, наконец, тот майский день, когда мама разбудила меня рано утром, нарядила в синий костюм, достала из шкафа громницу[[10]— ту самую, что горела, когда меня крестили, — а потом всей семьей: мама, папа, бабушка и сестра — мы вышли прямо на слепящее утреннее солнце, в безжалостный зной. По улицам нашего городка я старался идти с достоинством, то есть стягивал лопатки, высоко задирал подбородок и ровно отмерял шаги: нога на плите тротуара, одну плиту пропустить, вторую ногу— на следующую плиту. Так мы шли всей семьей, минуя поперечные улицы, откуда выходили другие семьи, и другие мальчики в костюмчиках, и девочки в беленьких платьицах, с зелеными веночками на голове, и эти группки сливались в длинную многоцветную процессию, направляющуюся к старому костелу. Высокая башня костела до войны была еще выше, но немцы ее разрушили, потому что она мешала взлетающим с полевого аэродрома самолетам, — это мне рассказала бабушка, когда мы, пройдя в ворота, входили на площадь перед костелом. «Ну иди, сынок», — сказала мама и легонько меня подтолкнула, и я пошел к своим товарищам, стоявшим парами у стены костела. «Так стоять! — приказала сестра Леония. — Стоять и не шевелиться! Не разговаривать! Сейчас придет фотограф, а потом вон там пройдет, — она сделала паузу дольше обычного, после чего отчеканила Заглавными Буквами: — Его Преосвященство Епископ!» Мы стояли, возбужденные ожиданием, и только переглядывались и изредка перешептывались. «Подарили тебе бемикс? — спросил у меня Лукаш. — Мне подарили, я уже катался». Я молчал, потому что не знал, подарят ли мне бемикс, а кроме того, не хотел сейчас, в самый важный день моей жизни, перед самой важной минутой в этой жизни, думать о велосипеде. Как и о том, что будет очень обидно, если не подарят: сейчас не время для обид! — а если хоть на минутку станет обидно, это может все испортить. Хорошо Лукашу— его родители были в прекрасных отношениях с сестрой Леонией и приходским ксендзом, поэтому Лукашу поручили на мессе прочитать главу из Евангелия, а после мессы — так он говорил, но мы не верили, ври, да не завирайся! — Его Преосвященство Епископ будет у них дома обедать. Потом из плебании [11]вышел фотограф, навьюченный сумками, и стал нас снимать; когда дошла очередь до меня, я выпрямился и выпятил грудь, всем своим видом стараясь показать, что на меня снизошла благодать и что я жду не дождусь первого причастия и прибытия Его Преосвященства. Это фото до сих пор есть где-то в семейном альбоме: подстриженный под пажа мальчик в костюме, криво держащий громницу и явно ослепленный солнцем; глаза сощурены, чуть ли не зажмурены, лицо искривилось в мерзкой гримасе: рот перекошен, зубы оскалены. Вот все, что осталось от того дня, про который мне говорили — и я свято верил, — что это будет самый важный день в моей жизни.)