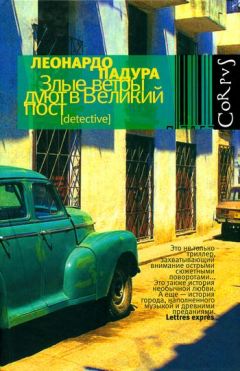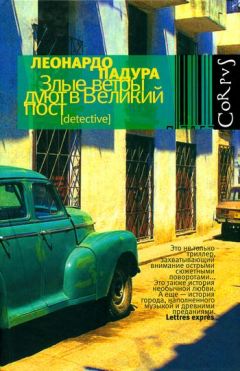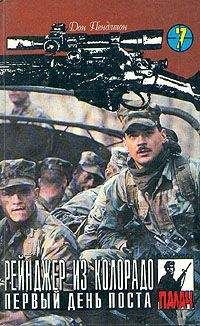Пётр Черский - Отец уходит. Минироман
Проходя мимо ресторана "Крестьянская трапеза" (наш ответ "Макдоналдсу"), где на витрине красовался большой каравай и круг аппетитной деревенской колбасы, я заметил там какое-то шевеление, и пригляделся, заинтересовавшись, и остановился, и еще раз посмотрел, и закрыл глаза, и снова открыл, и снова закрыл, и опять открыл, но картина не изменилась: официантка, раздвинув хлеб и колбасу, осторожно вставляла между ними портрет Папы, перевязанный траурной лентой. "Запомните: нет у Святого Отца надежды", — сообщил я проходящей мимо девушке, но она меня не поняла.
Немцы нагрянули на рассвете. Как всегда. Меня разбудил телефон. Звонил Клубень: "Вставай, вставай, через час все встречаемся в ‘Ракушке’, интеграция, сам понимаешь". Спустя час я пил кофе и участвовал в вялой беседе, и не сумел сдержать улыбку, когда Коля — высокий голубоглазый блондин — заявил, что не понимает, каким образом каждый поляк с первого взгляда распознает в нем немца. Не считая этого — тишь да крышь, общие слова, вежливые улыбки; скучища, несмотря на усилия Клубня любой ценой оживить диалог. В какой-то момент я полностью отключился, и из летаргии меня вырвало только "…and all the situation, you know, here, in Krakow, after Pope’s death" [25]— и дальше: теперь возникнут кое-какие трудности, отмена мероприятий, возможно, сухой закон. Немцы деликатно помалкивали, им особо нечего было сказать. "Yes, yes, I know, Pope has gone, I have read that in the newspaper in Berlin"[26], — Коля произнес э го таким тоном, будто говорил о присуждении Оскаров или чемпионате высшей лиги. Но тут тебе не Берлин, Коля, подумал я, сам убедишься.
Днем я поехал в Новую Гуту[27] за ноутбуком, который присмотрел накануне на распродаже в Интернете. Как только выехали из центра, я потерял ориентацию: автобус петлял, сто раз куда-то сворачивал, пока, наконец, не прикатил в большой жилой район, где все проходы, проемы и щели были забиты деревянными киосками; как мох, прорастающий между бетонными плитами, норовя их раздвинуть, мелкий бизнес оккупировал спальный район: едва закончилось время бронзовых героев, сжимающих молоты в крепких руках, — тех самых руках, которыми они па комбинате вырабатывали триста процентов нормы, — и настали новые времена, туда слетелся рой мелких торговцев, продавцов овощей и гамбургеров. Я приехал слишком рано и минут пятнадцать простоял около киоска, с витрины которого на меня смотрел Папа, а из-за его спины выглядывала еще сотня Пап — за один уик-энд типографии выполнили новую норму на триста процентов и уже выпустили специальный комплект воспоминаний: коротко о понтификате, еще раз переживем паломничества, Папы в Польшу, самые волнующие моменты, это незабываема, а потом я углубился в проход между домами в поисках указанного в Интернете адреса. По улочке прохаживался полицейский патруль, на скамейке сидели трое пацанов в спортивных костюмах, периодически сплевывая на тротуар, а вдалеке какой-то тип гнался за девушкой, убегавшей от него с криком "Спасите!" — вероятно, в шутку, хотя, когда через четверть часа я возвращался с компьютером в рюкзаке, какая-то девушка, возможно, та самая, а может, другая, стояла возле гаражей, держась за щеку, и из разбитой губы у нее тоненькой струйкой сочилась кровь. Но, возможно, ничего такого и не было, возможно, мне просто почудилось — я ведь только краем глазом ее увидел; возможно, все было не так, потому что так быть не могло.
Автобус, на котором я ехал обратно, был набит под завязку, но на следующей остановке в него втиснулось еще десятка полтора болельщиков "Краковии"; и тут же: "Эй, Седой, бля, подвинься, щас получишь" — и: "Ты чё, не видишь — места нет, куда я тебе, на хер, подвинусь?" И в смех. Потому что предложено подвинуться на хер. Я держался за поручень, оберегая одновременно мягкий рюкзак, в котором лежал ноутбук, и кошелек в заднем кармане, но в этой толчее полезть за кошельком означало коснуться стоящей рядом девушки и зацепить карман какого-то мужика — и, конечно, тут же подозрительные злобные взгляды: не хочу ли я, часом, вроде бы доставая свой кошелек, стибрить чужой? "Франек, долбоеб, уступи женщине место!" — крикнул один из болельщиков, и снова смех, потому что: "Франек, Франек, для бабы пряник, прямо на асфальте влепит ей пенальти". "Франек-долбоеб", — повторил один, маленький такой, щербатый, лет двенадцать от силы, и немедленно получил щелбан по башке от старшего товарища: "Кончай выражаться, сопляк, чего ты там понимаешь, сначала сам попробуй". Весело было, по-свойски, почти по-семейному, а я только недоумевал, почему матч в понедельник, с каких это пор стали играть по понедельникам, всегда ведь в субботу или воскресенье; верно, перенесли, подумал, из-за Папы.
А едва я подключил ноутбук, запустил форматирование диска и перерыл коробку в поисках инсталляционных дисков, едва наметил, как делить диск, позвонил Клубень — чтоб я шел в клуб "Лубу-дубу", будут показывать веселый венгерский фильм, после которого можно будет весело поддать. Я подумал, что веселья-то мне и не хватает, бросил все, как лежало, и пошел на остановку. Смеркалось; на остановке стояло человек двадцать, если не больше, какой-то мужик покачивался у стены, поддерживаемый двумя дружками; "Янек, — говорил один, — держись, Янек", — а девушка в бежевой куртке сообщала подруге, что автобуса не видно. "Надо же, смотрю-смотрю, а его все нет", — говорила она; возможно, он и вправду не приходил, оттого что все его высматривали. Ни одного из двух автобусов, что тут останавливались, не было, зато напротив, с натужным ревом поднявшись вверх по улице, к остановке регулярно подкатывали автобусы тех же маршрутов и через минуту исчезали за поворотом. И ни один не возвращался, как будто где-то там, за углом, притаилось загадочное Нечто и — хап! — в мгновение ока заглатывало с концами все что ни попадя, а охотнее всего— городской транспорт. "Опаздываю, — написал я Клубню, — сегодня ничего не ходит". Автобусов действительно не было, хотя Янек очухался и почапал с друзьями в магазин, а девушка в бежевой куртке замолчала. Народу все прибывало, и уже кто-то что-то знал, что-то слышал; "Авария около стадиона, движение перекрыли", — сказала одна женщина, а другая ей на это: "А мне говорили, полиция закрыла стадион". Но вот, наконец, появился автобус, и кто смог, втиснулся, и вот мы уже едем вниз по улице, уже водитель кричит: "Конечная!" — и вот я уже снаружи, уже стою в толпе болельщиков "Краковии", и уже в голову мне лезет: "Лех, Краковия, Арка, любовь, вера, борьба", — а еще, что болельщика "Арки", надо надеяться, в этой давке не убыот.
И не убили. Стояли молча, неподвижно, лица застывшие, руки за спиной, взгляды куда-то устремлены, ну и я обернулся, медленно, осторожно, еще не понимая, чего ждать, — и увидел огоньки, сотни, тысячи, десятки тысяч огоньков, увидел людей, безмолвно идущих плечо к плечу с зажженными свечами, а над головами у них поднимался к небу дым; увидел огромную реку, текущую по улице Пилсудского и разливающуюся по Блоням[28], реку могучую, реку широкую, реку безмолвную. И я стоял на берегу этой реки, как стоят обычно на берегах рек, стоял несколько долгих минут, стоял в тишине, в сосредоточенной тишине, — а потом закрыл глаза и вошел в эту реку, вошел не спеша, вошел, чтобы омыться в ней и выйти чистым. И тогда я услышал голос, тихий и приятный, и подумал, да, я слышу голос, и прислушался — а голос говорил: "Эй, Элька, сегодня бухаем у Мачека, в сто четырнадцатой, приходите с Рафалом" — и я очнулся на мелководье.
Я шел по Пилсудского, по Страшевского, по Плянтам, шел навстречу людям, против течения, но вроде как по течению, робко шел, незаметно, чтобы мое против течения не казалось вызывающим — напрасный труд: оно было вызывающим; и зря я старался быть незаметным, зря прятался в тени: вокруг горели сотни свечей, и постоянно вспыхивали новые, и мерцающий их свет извлекал меня из темноты, и всё новые лица поворачивались в мою сторону. И видя, сколько этих лиц, я ощутил угрозу… но, может, это игра воображения, мне только чудится, будто взор их суров? Что это: мираж, морок, дурной сон — или вправду на меня обращены осуждающие взгляды? И с какой стати мне кажется, что в торопливом ритме моих шагов звучит "этот с нами, этот против нас" — а в их неспешном марше слышится "кто один, тот наш злейший враг"? Разве только нечистая совесть заставляет меня нервно озираться; неужели это правда, неужели они расступаются передо мной, чтобы меня пропустить, а затем затянуть как можно глубже, затянуть туда, откуда уже не убежать?
До "Лубу-дубу" я добрался через час. Все уже сидели в кинозале — кроме Яся, который тоже опоздал. Мы взяли пива, курили, иногда переговаривались: мол, цены высокие, мол, пиво отменное, а сигареты хорошо пахнут, — но чего-то важного нам недоставало, и в конце концов я сказал, что был там, и шел навстречу людям, и видел их взгляды, а Клубень сказал, что так уж оно здесь, в Кракове, всегда. И еще добавил: "Я был тут, в ‘Лубу-дубу’, когда он умер. На дискотеке. Зажигали по полной, и вдруг музыка обрывается, и диджей объявляет, что Папа умер. И что сейчас будет перерыв десять минут. Мы не знали, что делать, вышли на улицу, и никто не знал, что делать, и все выходили; и мы пошли к костелу. Постояли немного. Вот так-то. И слов никаких не находилось".