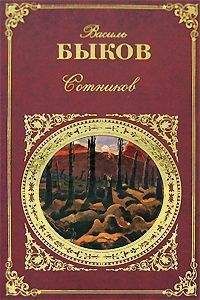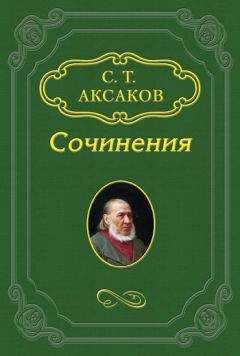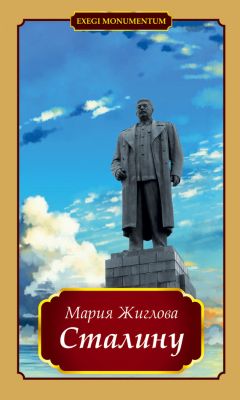Мишель Кент - Страшные сады (сборник)
Даже Гастона и Николь предоставь их печали.
Не слушай никого, папа… Подумай о себе, хоть раз… Окажи внимание лишь тени моих слов, это история мира, который мог бы существовать. И главное, не позволяй выступлениям Франсуазы завладевать тобой. Возьми свою долю искренней боли ее нытья и будь снисходителен к ее выходкам властной девицы и образцовой сестры.
Она рядом со мной, такая же, как всегда. Она нацепила на себя печаль по последней моде, слезу, пошитую на заказ, рыдания с дефиле, и ей стало лучше. Так не столь остро ощущается боль. Потому что в тяжелых обстоятельствах она показывает все, что имеет: большое тело, немного тучное, грудь, что обычно обременяет ее, сходство со мной, нос-пятачок и коровьи глаза, и вместе с тем она преисполнена достоинства, преподносит тебе все это с щедростью болезненной плоти, как подарок, с видом Марии Магдалины… Не думайте, что говорить так о Франсуазе жестоко. Напротив, эта ее манера никогда не удивляться боли, это четко управляемое отчаяние вызывают восхищение… Нет, правда, молодые мужчины, с покрасневшими глазами, кое-кто из твоих бывших учеников, пришедших отдать тебе последние почести, папа, вздрагивают, когда она испускает короткий, почти эротический стон, как раз в тот момент, когда кюре поднимает кропило над могилой:
— Во имя отца…
Уже!.. Сейчас закроют твою могилу, заточат тебя в глухие сумерки… Итак, я должен тебе сказать, быстро, папа, у меня две секунды, и я не знаю, с чего начать. Может, закрыв глаза, я смогу остановить время:
«— Сегодня умерла мама…»
Хотя эта история началась сразу с финала, мне казалось, что мы проживем любовный роман от начала до конца, Инга и я…
Накануне я приехал в семью, что сдала мне две комнаты в цокольном этаже своей виллы. На склоне холма, который взбирался к широкоплечей церкви. Семья Тьелей. Теодор и Гертруда. Они приняли меня при большом параде, выстроившись в ряд у крыльца, мальчики, семи, пяти, трех лет, Шорен, Маркус, Лоенгрин, как матрешки, побритые налысо, в баварских кожаных шортах, пышущие здоровьем, с голубыми глазами, розовыми щеками, и на руках матери — Брунгильда, десяти месяцев от роду но уже с голосом Кастафьоре, от которого лопаются зеркала.
Теодор — крепыш с квадратной головой, гранитная глыба, монолит, на первый взгляд упрямо-ограниченный. Но он шел к тебе с распростертыми объятиями, был скромен в движениях и сдержан, участлив. И внимателен к ближнему. Явно не позер. Гертруда, вот это да, бесспорно, совсем не та Валькирия, что ты представляешь! Землеройка, лесной зверек, тушканчик, сноп коричневой пшеницы, посеянной на голове, глаза фаянсовой игрушки, она постоянно кудахчет, так, что ничего невозможно понять, и смеется сама с собой, и в каком бы уголке дома ты ни встретился с ней, вынимает для тебя, будто фокусник, даже не заметишь, откуда что берется, тарелку пирожных и бокал рейнского вина, для небольшой спонтанной пирушки. И все эти люди улыбались мне так широко, словно я был маленьким Иисусом. Сейчас, папа, я все понимаю правильно, но в тот день, ой-ей-ей, я больше не мог выносить эту картину семьи в фольклорных тонах!.. Сдерживаясь изо всех сил, чтобы не расхохотаться, я чуть было не пукнул от натуги!
Знаешь, папа, мне все еще трудно не смотреть на людей свысока, подавлять в себе это. Возможно, из-за инстинктивной защиты — своего рода способ оградить себя. Хотя, конечно, это — самоутешение. По правде говоря, сколько я ни старался, моя суть высокомерного педанта осталась прежней: Тьели, я смотрел на них снисходительно, как на деревенщину из другой эпохи. Конечно, Гастон и ты, вы меня уже один раз остудили, показав обратную сторону очевидных вещей, и презирать эту семью за то, что они немцы, я совсем не хотел, но не мог помешать своей старой сущности тайно выбираться наверх. Мы даже не отдаем себе отчета в собственной мерзости. Когда приезжаешь в завоеванную страну, к побежденным в 1945 году нацистам, уверенности и предубеждений хоть отбавляй!..
Теодор представил мне всех по очереди, потом я попытался сказать хоть одну любезность, каждому в отдельности; не знаю, как удается Франсуазе так комфортно чувствовать себя с немцами, ей, которая всегда видит только плохую сторону вещей, я же, несмотря на мой благостный порыв, на то, что я очень старался и все такое… я запутался в склонениях, забыл правила переноса глагола и что-то невнятно бормотал. В тот раз я их сильно рассмешил, и это спасло меня от того, чтобы самому не лопнуть от смеха, они сделали вид, что понимают мой ломаный язык, и ребята довели нас, меня и Теодора, до порога моего пристанища. А потом они выстроились перед чем-то вроде мудреного сундука, гордые, словно коты, показывающие огромную мышь, растерзанную их когтями:
— Нам кажется, что это лучше, чем радио…
И Теодор открыл клавиатуру маленькой фисгармоники. Потрясающая штука. Стоило ему поднять крышку, как Лоенгрин уже стучал кулаками по клавишам! Братья схватили его за лямки штанов и одним махом вернули на место. Я по глупости решил, что им было лень переставлять инструмент, и теперь они станут выпрашивать себе право приходить поупражняться в мое отсутствие. Прекрасно… Чтобы успокоить их, я сам завел разговор об этом:
— Ага, Лоенгрин — будущий Вагнер, да? Вы, может быть, тоже играете, Герр Тьель?..
— Nein… Никто из семьи… Но вы-то конечно же играете, не так ли?.. Французы такие образованные… Мы взяли ее напрокат для вас…
Я просто сел от изумления! Фисгармоника! Взять напрокат фисгармонику, только потому что я француз, для меня, чья нога никогда не ступала в церковь, кто не смог бы попасть в такт, даже если бы дал сам себе молотком по пальцам! Музыка! Да я всегда фальшивлю! Однако я не осмелился развеять их заблуждения. Не смог честно признаться в своей спеси, которая еще владела мной. Это было моей первой подлостью. Впрочем, я не слишком задирал нос, подыскивая себе симпатичные алиби, чтобы отказаться от предложения сыграть маленький кусочек: одеревенелые от путешествия пальцы, например?.. И так далее, и тому подобное, я строил из себя неженку… Чтобы сохранить лицо, не признаваться, что я ничего не смыслю в музыке!.. Я не знал, что на следующий день подвергнусь второму оскорблению с Ингой и умершей мамой. Так мне и надо!
Я должен был провести у этих ангелов-вояк в кожаных штанах два месяца. Мне казалось, что меня рассматривают как экзотического французского студента. Ach Parisss, kleine madmazelles! Не тут-то было: Тьели совсем не искали благоухания Пигаль на отворотах моего пиджака… Очень быстро, из-за смешной истории, которую я расскажу тебе позже, из-за одной встречи, одной старой фотографии, висевшей на стене в их гостиной, запечатлевшей улыбающегося парня, в кепке, взгромоздившегося на самый верх строящегося дома, я понял, что они, в рамках своей семьи, заключили вселенский мир без покаяния в грехах, без ложных сожалений о том, в чем не чувствовали себя виновными, о преступлениях нацистов. Они признавали их реальность, но не желали добровольно соучаствовать. Я также понял, что должен соответствовать этому неброскому достоинству. Отец Гертруды, плотник с фотографии, умер в Сталинграде, простой удивленный солдатик, а за прошедшие годы Тьели приютили у себя сначала бельгийку, потом англичанина. Перед моим отъездом они страстно желали, чтобы молодой советский человек, из любой социалистической республики, приехал бы к ним погостить. Чтобы в комнате для гостей осталась атмосфера братства, чтобы дети Тьелей приходили подышать ею. Сентиментальные утопии… Да, ладно, мы к этому вернемся…
В ожидании осуществления заветного желания Теодор главным образом приобщал свою семью и гостей к аромату Heffeweissbier, белого пива: он был декоратором пивных, состоял на зарплате Dortmunder Union Bier, Дортмундской Пивной Лиги. В его ведении находился округ, размером с четверть Франции, он чертил планы и следил за ходом внутреннего оформления всех бистро, где продавали дортмундское пиво. Kolossal! Из-за того, что ему хронически не хватало времени, все приемки работ он откладывал на воскресные дни. Что позволяло ему улаживать дела в воскресных радостях, выслушивая похвалы клиентов о своей работе, и не позволяло отказываться от предложенных кружек пива, mass, как их там называют. В конце дня, пьяный и ублаженный, мой Теодор пел!.. «Кармен», «Травиата», «Паяцы», связанные вместе случайно, и что-нибудь из Тренэ по-немецки, и «Лили Марлен», и «Венская кровь» — все, что приходило в голову. И громко. Потому что в его «фольксвагене» нет радио. И потому что он думал, будто пение, даже фальшивое, это всегда гимн радости примирившихся людей. В один из таких дней он все так же радостно заснет за рулем, и auf Wiedersehen Теодор!.. Наверное, эти заезженные мотивчики, а особенно необходимость часто останавливаться для того, чтобы пописать на обочине дорог, спасали его до настоящего времени. Он заставляет меня вспоминать о тебе, папа, о том, как ты возвращался со своих любительских клоунад, усталый, но гордый сознанием выполненного долга.