Романо Луперини - Ивы растут у воды
Но однажды даже дядя, в порыве дикого гнева, с горящим лицом, крепко схватил моего отца и приподнял его над землей, грозя выбросить из окна. Они стояли лицом к лицу, запыхавшись, двое мужчин, готовых покалечить друг друга, среди взволнованных домочадцев, перед окном гостиной, на котором мирно висела клетка с зябликом.
Сначала отец игнорировал меня. Когда он стал немного мною заниматься, от случая к случаю и всегда для меня неожиданно и непредсказуемо, казалось, его не интересовало, чтобы я был хорошим и любящим, чтобы читал нужные для обучения книги. Он предпочитал рассказывать мне о том, как играл в футбол и ездил на велосипеде, о жизни в деревне, где он провел детство, или о партизанских подвигах. Однажды он освободил место за зеленой ширмой и подвесил к потолку на веревке мешок с песком, получилась груша для бокса. Мне он сказал: «Давай потренируемся, ты же мужчина, я научу тебя драться». Голый по пояс, он стал яростно колотить по мешку, при каждом ударе испуская короткий истошный крик, что-то вроде глухого дикого воя. Только потому, что он приказал мне, я тоже начал, сжав кулаки, колотить по тяжелой груше, еле стронув ее с места, но делал это с отвращением и почти с ужасом.
Мало-помалу я привык смотреть на отца со страхом и подозрением. Решающим был момент, когда постоянное тревожное ожидание заставило меня ощутить связь его поведения с жизнью моей сводной сестры. Она была намного старше меня, собирала фотографии актеров и актрис кино, вырезая их из иллюстрированных газет и журналов и вклеивая в большие альбомы. Тревога, обострив мое внимание, побуждала замечать некоторые странности в поведении отца, о которых я говорил маме, вызывая бурную реакцию против мужа. Что именно? Трудно вспомнить точно. Моя мать рассказывала, что, когда она спросила у меня, почему я трогаю себя впереди, я ответил, что папа тоже так делает, когда видит сестру. Мне смутно, как в галлюцинации, помнятся некоторые его поступки: кажется, я видел, как он поднял с пола в ванной ее трусики и поднес их к лицу, в другой раз он уронил коробку спичек на пол, чтобы иметь предлог нагнуться и снизу посмотреть на сестру, когда она сидела в кухне, подняв ноги на верхнюю перекладину стула. Более четко я помню, как однажды обидел сестру, крикнув ей: «Кокетка!»; слово, значения которого я не знал, прозвучало странно и предосудительно. Оно повисло в воздухе, заставив всех присутствующих обернуться ко мне, застыв от изумления: сестру с ложкой во рту над чашкой кофе с молоком, тетю, склонившуюся над угольной печью, раздувая огонь, с опахалом в руке, маму, выпрямившуюся у раковины, отца, стоящего перед окном с кисточкой для бритья в руке. «От кого ты научился этому слову?» — спросила в возникшей тишине мама. Потом, не дожидаясь ответа: «От тебя, он научился от тебя!» — в бешенстве набросилась она на папу. Я был ошеломлен и испуган: снова я оказался причиной ссоры и предателем своего отца.
Однажды в душный летний день я остался дома один с отцом, он отдыхал в своей комнате, а я дремал на диване в маленькой гостиной через стенку. Вдруг послышался странный шум, как будто что-то грызли или пилили. На цыпочках я подошел к комнате родителей, чтобы подсмотреть в их дверь. В трусах и майке папа стоял у двери напротив, ведущей из его комнаты в комнату сестры. Я заметил, что с некоторого времени эта дверь всегда была закрыта на ключ. Он стоял не прямо, а согнувшись, и возился у двери с чем-то острым в рукам, вроде ножа. Вот оно что, он старался сделать дырку в дереве двери, прямо над замком. Время от времени он наклонялся и смотрел в отверстие, которое пробивал. Услышав, как в глубине коридора хлопнула входная дверь, я побежал прочь на цыпочках и снова бросился на диван, ожидая катастрофы. Когда мама вошла, она увидела на полу деревянную крошку и кусочки дерева, которые папа не успел убрать. Их голоса звучали так близко, что я мог слышать каждое слово. Она его обвиняла, что он положил глаз на девчушку, ее дочь, а он отвечал, что они — мать, тетя с дядей — ничего не замечают, а девчонка становится распутной, и они должны следить за ней, потому что она будет хуже мамы. Он видел ее на валу с товарищем по школе, а она сказала, что идет заниматься к подруге. «Ревнуешь, вот оно что, ты ревнуешь!» — кричала мама, бросаясь ему на грудь с кулаками.
Эти ссоры всегда кончались тем, что папа в бешенстве уходил из дома и пропадал по целым дням, уезжая на своем черном велосипеде. Иногда, уходя так, он брал с собой меня, посадив на раму велосипеда. Я не мог отказаться, но чувствовал себя похищенным от матери, невольным предателем. Крутя педали, он все время говорил сам с собой в мрачном исступлении. «Они думают, я дурак, — говорил он. — Но я все вижу. Я привык быть начеку, я знаю мужчин и женщин. Она станет распутницей, она из „таковских“». Теперь уже он не звал ее по имени, даже когда говорил о ней дома, только «из этих самых», «та еще». Он шпионил за ней на велосипеде, со мной на раме, чтобы застать ее, когда она выходила из школы или на прогулке по городу с подругами или товарищем по классу. «Смотри, как она вертит задом», — говорил он; и я, сам того не желая, смотрел, как маленькие круглые ягодицы шестнадцатилетней девушки качаются под одеждой туда-сюда, и дрожал при мысли, что она обернется и заметит отца, со мной на раме, следящего за ней тайком на велосипеде. Иногда он говорил: «Сколько раз на войне я думал пустить себе пулю в лоб. Почему я этого не сделал?». И так мы ездили до ночи, мое тело немело от однообразной позы, мне было холодно, голые ноги болтались в воздухе, но я не осмеливался попросить его остановиться и дать мне размяться.
Иногда после ссор он брал меня с собою в кино. Как-то раз, когда мы вернулись, мама, грустно глядя на меня, сказала: «Эх ты! Дал себя купить за кино».
Глава третья
Я вернулся в дом матери, рылся в коробках с фотографиями, искал самые старые, перелистывал школьные учебники отца и книги его юности, нашел дневниковые записи, которые он делал подростком, стихи и рассказы, перечитал книги о партизанской войне в Югославии и доклад о Сопротивлении в Истрии и Словении, который я отослал бригадному политруку. В выдвижном ящике я отыскал черновик другого донесения, более автобиографического, и газету «Голос леса», выпускавшуюся в партизанском подполье, в котором отец подписывал свои статьи псевдонимом, составленным из имени жены и моего. Мать показала мне фотографии, которые он держал в бумажнике во время войны, пожелтевшие, с измятыми краями: матери и мою, с большими черными глазами на круглом пухлом лице двухлетнего мальчугана. Образ отца в рассказах матери, уступавшей моим настойчивым просьбам, и в прочитанных записях не соответствовал вышеизложенным воспоминаниям. Это был образ человека более мягкого и нежного, в некотором смысле почти романтического. Мать говорила, что в последние годы он снова стал ласковым, как во времена их влюбленности. Впрочем, поступки и поведение отца всегда казались мне противоречивыми из-за их бессвязности, осколками складываемой с трудом мозаики.
На одной фотографии — на обороте стояла дата: 1930 — была выстроена футбольная команда (на заднем плане виднелись лица зрителей и металлическая сетка). Игроки — в белых майках и черных трусах — снимались в два ряда: в первом ряду присев на корточки, во втором ряду стоя. Последним в первом ряду сидел на корточках мой семнадцатилетний папа, с бледным худощавым лицом и горящими глазами. Мне вспомнилось, как он когда-то показывал мне эту фотографию в первый раз много лет назад: «Самый молодой в команде. Конечно, нападающий: рывок делают коренастые. Ты тоже коренастый», — были его слова.
Потом он начал ездить на велосипеде. Впрочем, в институт ему приходилось ездить каждый день около тридцати километров, и так он невольно тренировался. Велоспорт, говорил он, это спорт для бедных и, особенно, для деревенских, поэтому он ездил хорошо. Но в девятнадцать лет он заболел плевритом и, по общему мнению, должен был умереть. Когда врач, который его лечил, сказал, что он тает, как свечка, и больше ничего нельзя сделать, дедушка взял двуколку и поехал за колдуном в Бьентину. Колдуном был старый крестьянин, он вправлял переломанные ноги и руки и лечил травами. Он намазал ему тело нагретой маслянистой жидкостью и с силой растер его, сделал ему массаж груди, спины, разогнав кровь, побежавшую по жилам все быстрее и горячее. Потом его голого уложил на кровать и навалил на него одеяла, тюфяки, подушки, гору одежды. Отец потел всю ночь; пот так пропитал матрас, что капли из-под него протекали на пол. Но через день температуры не было. Понадобился еще месяц, чтобы он смог встать с кровати, и восемь для полного выздоровления, чтобы вернуть его к почти нормальной жизни.
Из-за болезни он прервал учебу и, казалось, не хотел больше возвращаться к ней. Во время выздоровления в нем поселилась странная апатия, вялость и чувство полной непригодности. В это время — это видно из дат на обложках — он прочитал три-четыре книги Д’Аннунцио[18]. Должно быть, под его влиянием в отце развилась острая восприимчивость, чрезмерная чувствительность, безудержная варварская гордость. Воображение терялось в образах народных куплетов и пастушек, раскинувшихся под летним солнцем на зеленых берегах Пескары, в мыслях об избранности и превосходстве, вызванных сложным литературным текстом, который он старался усвоить, в проектах господства и приключений, так непохожих на действительность пустого дома, в окружении мрачных полей в ту долгую зиму выздоровления. Он впадал в меланхолию. Дом стоял изолированно, в полях; домочадцы (отец и братья) работали в поле или на болоте. Не было электричества, ночь наступала рано, свечи в комнатах и керосиновая лампа в кухне давали рассеянный и призрачный свет. Он видел перед собой черное гумно, замерзшие оголенные виноградные лозы, горбатые оливы, грязные лужи на проселочной дороге. Иногда он подолгу прислушивался к пронзительным однообразным крикам птицы, прилетавшей по вечерам на оливу в глубине гумна: механически он отмечал время, отделявшее один жалобный крик от другого. Временами он сидел на низкой завалинке рядом с дверью, прислонясь спиной к стене дома, и оставался в этой позе часами. Его сестра много раз наблюдала за ним и потом, не понимая, много лет спустя рассказывала об этом с удивлением. Он не хотел больше учиться, не думал о работе, не хотел не только поднять руку, но даже повернуть голову. Отец и братья часто вспоминали этот период как доказательство его наклонности к лени, полной неспособности и праздности.



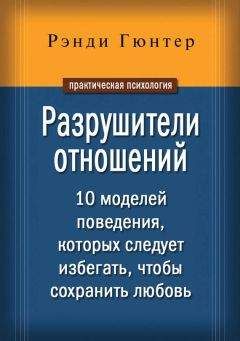
![Айзек Азимов - Истинная любовь [Настоящая любовь]](/uploads/posts/books/56147/56147.jpg)