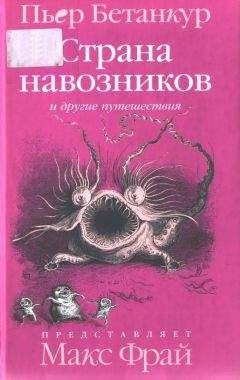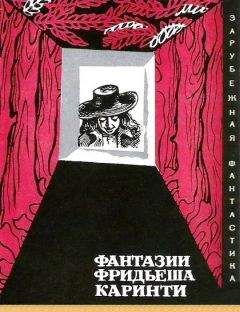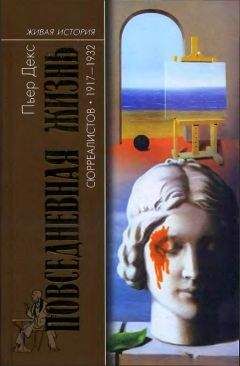Эли Визель - Время неприкаянных
Это она открыла ему Христа. Ему было, наверное, лет пять-шесть. Отец его умер, и он страстно привязался к матери. Без нее, вдали от нее он страдал. В одно зимнее утро, когда ее не было, он осел на пол, как игрушка со сломанной пружиной. Она нашла его лежащим без сознания. Сраженный острейшим приступом пневмонии, он дрожал всем телом, по которому молотил огромным кулаком черный злобный дьявол. «Пить, пить», — шептал он. Ничто не могло утолить его жажду. Или облегчить боль. Ему было плохо, он дышал с трудом. Его мама ставила холодные компрессы на лоб, грудь. «О, что же это за жизнь! Я не заслужила того, что с нами происходит, гнусный мир ополчился на меня… Все будет хорошо, малыш, вот увидишь, все будет хорошо, иначе, клянусь тебе, все будет так же плохо для других, клянусь тебе в этом». Но он мог ответить ей только одним словом: «Пить, пить». Доктор был встревожен: в регионе свирепствовал тиф. «Если он умрет, я убью всех и убью себя», — отвечала мать, которая без устали осыпала бранью и проклятиями прогнивший человеческий род. В своем бреду она доходила до того, что проклинала и Бога Отца, который не помешал врагам распять Своего возлюбленного сына Иисуса и поразить недугом ее собственного сына. В сущности, она не доверяла Богу: Он был слишком суров, слишком жесток, она ненавидела Его. Любила она Иисуса Христа. И молитвы свои адресовала ему. Однажды ночью маленький Янош почувствовал, что падает в бездонную пропасть. Издалека донесся до него плачущий и гневный голос матери: «Нет, нет, сынок! Не уходи! Я тебе запрещаю! Ухватись за Господа, Он спасет тебя!» Сквозь плотно сомкнутые веки он увидел прекрасного и спокойного, но очень больного человека, чьи налитые кровью глаза, обращенные к небу, казалось, освещали его. «Молись, — сказала мама. — Иисус услышит тебя. Попроси его сохранить тебе жизнь. Обещай ему, что будешь хорошо себя вести, что вырастешь добрым христианином. Ведь он любит детей». Тогда человек с добрыми кроткими глазами протянул ему руку и с бесконечной осторожностью стал вытягивать его из темной бездны, куда он едва не провалился. В тот день маленький Янош решил не расставаться больше с изображением Христа. Каждое утро, при пробуждении, и каждый вечер, перед тем как заснуть, мать приносила ему образ, чтобы он мог облобызать его еще раз, десять раз.
С годами Янош познакомился с другими изображениями своего Спасителя, нарисованными или выгравированными различными художниками в разные эпохи. Он досконально изучил все эти картины и стал экспертом в данной сфере. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы определить, кем был художник и в каких условиях создавал свое талантливое или бездарное творение. Отовсюду к кюре из далекого провинциального Щекешвароша приезжали за консультацией, чтобы удостоверить подлинность, или растолковать картину какого-нибудь великого мастера, или распознать копию фальсификатора. Борцом с подделками — вот кем он стал. А также защитником любви и достоинства Христа. Ибо обожаемый сын вдовы Бараньи решил посвятить свою жизнь Богу. Сначала она пыталась разубедить его: он был ее единственным сыном, и ей хотелось видеть его женатым, отцом многочисленного семейства и, главное, счастливым человеком — то, чего она сама не получила. Но он умел разбивать ее доводы: «Не ты ли повторяла мне постоянно, когда я был маленьким, что именно Ему я обязан своим чудесным спасением? Кому же могу я воздать за это?» Бедная женщина, непривычная к спорам, только кивала, глотая слезы: «Да, мой мальчик, ты, конечно, прав, в семинарии тебя научили находить нужные слова, но…» — «Но что, мама?» — «Что станется с нами, если у тебя не будет детей? Когда-нибудь я умру, когда-нибудь ты умрешь, и в нашей бедной семье больше уже никого не останется! Поэтому я и плачу…» Тогда он вынул из кармашка своей сутаны первое изображение Иисуса, то, которое она дала ему поцеловать, когда он был маленьким и умирал от пневмонии. С этим изображением он не расставался никогда. «Не печалься, мама. Он останется после нас». — «Да, конечно, конечно, сынок. Кроткий Иисус останется после нас. Он есть жизнь…» — «Он все, что есть вечного в жизни», — уточнил Янош, лучась от счастья. Мать смотрела на него, раздираемая противоречивыми чувствами: ей было радостно видеть своего мальчика счастливым, и вместе с тем она сознавала, что, в сущности, потеряла обожаемого сына ради возлюбленного Сына Господа.
Но сейчас, этой ночью, которая всей своей ужасающей тяжестью навалилась на столицу, архиепископ не понимал, почему Христос из его сна не походил ни на одно изображение, увиденное им с детских лет. И однако, тот странным образом казался ему знакомым. От этого у него защемило сердце. Словно он совершил грех, за который нет и не может быть прощения.
* * *Сидя за столом и раскрыв ветхий на вид томик, молодой каббалист Хананиил по прозвищу Благословенный Безумец перечел комментарий Мидраша об Иове, где говорится о долге человеческой памяти: «Прежде чем предстоит кому-то покинуть земной мир, является к нему Святой, да будет благословенно имя Его, и говорит ему: „Запиши все, что ты свершил“. И человек заносит все на бумагу, затем ставит на ней свою печать». Молодой мудрец оглаживает бороду, черную и густую. Он не понимает: почему Господь не дает себе труда лично напомнить каждому о последней обязанности сведения всех счетов? Почему Он не посылает ангела? Внезапно каббалист слегка поднимает голову, чтобы взглянуть с притворным упреком на «габбе», своего друга и верного слугу: зачем тот потревожил его в столь поздний час? Как обычно, он сразу овладевает собой: с тех пор как они вместе — пять лет? больше? — пребывают в поисках истины, между ними установилось любовное согласие, сделавшее их почти равными. Хананиил заговаривает легким, шутливым тоном:
— Ты не спишь, Мендель? Что тебя тревожит? Надеюсь, не грехи? У тебя их немного, я знаю. Я научился угадывать твои намерения и оценивать твои поступки: ты чист во всем. Однако ты, вместо того, чтобы спать, явился и помешал моим занятиям: быть может, это твой грех…
Он смотрит на своего друга, и ему кажется, что тот страдает от неизвестного недуга. Обычно Большого Менделя, как его всегда называли, будто бы существовал какой-то другой, не так легко смутить. Владея жестами своими и речью, он тут же находит верную фразу для ответа любому человеку одинаково уважительным и откровенным образом: никогда не пресмыкаясь и не принижая себя даже перед своим молодым рабби, чей глас заставляет умолкнуть горних ангелов проклятия. Только Большой Мендель может позволить себе говорить с ним свободно, открывать ему то, что предпочитают утаивать его богатые и влиятельные посетители. Но сейчас слуга будто странным образом занемог. Словно потерял дар речи. На вопросы Благословенного Безумца, которого именует «рабби», несмотря на протесты своего хозяина, он отвечает пожатием плеч, как бы желая сказать: рабби мне все равно не поверит… то, что я должен ему сообщить, быть может, смешно, но важно. Наконец он бормочет:
— Хм, рабби, тут в прихожей, в самом конце коридора, да, почти на улице, ждет священник…
Благословенный Безумец не может скрыть удивления:
— Верно ли я расслышал, Мендель? В такой час? Священник, ты ведь сказал, священник? На улице? И он ждет? Чего он ждет? Быть может, Мессию? Да нет, ведь его Мессия уже явился, как считают христиане, хотя мир от этого не изменился…
— Он хочет видеть рабби, — говорит Мендель, избегая смотреть в глаза Хананиилу. — Он говорит, что у него поручение к рабби. Важное поручение.
Благословенный Безумец вынимает платок и кладет его на раскрытую страницу книги, которую изучал.
— Мендель… Если священник приходит к еврею, это недобрый знак. Но если еврей должен идти к нему, это еще хуже.
Сплетая и расплетая пальцы, Мендель еле слышно спрашивает:
— Что мне сказать ему, рабби?
— Скажи, пусть войдет. — И со вздохом добавляет: — Да сжалится над нами Творец мира, будь благословен Он и Имя Его.
Внезапно молодой Хананиил чувствует себя старым, словно бы ослабевшим от тяжести стольких лет, прожитых другими, его предшественниками. Ему даже трудно встать. Опершись на руку своего «габбе», он поднимается, но тут же садится вновь: к чему показывать пусть и едва заметную слабость посетителю, который предпочитает являться ночью и наверняка не желает ему добра? В мозгу его возникают картины, погребенные под песками времени. Диспут в Париже, проходивший под покровительством Людовика IX и в присутствии королевы-матери Бланки Кастильской: спорили там между собой прославленный рабби Йехиэль, представлявший иудейскую веру, и подлый ренегат Николай Донин, да будет имя его навеки предано забвению, который выступал защитником веры христианской. И в Барселоне, где перед лицом короля и королевы рабби Моше бен Нахману, более известному под прозвищем Рамбан, составленному из первых букв имени, противостоял Пабло Кристиани. Еврейский Учитель, одержавший победу в диспуте, вынужден был бежать. И диспут в соборе города Тортосы, где рабби Иосеф Альбо и двадцать еврейских мудрецов выступали против Херонимо де Санта-Фе. С одной стороны — познания, с другой — злобные наветы. А что же Благословенный Безумец? Не наступил ли его черед защищать свой народ на публичном диспуте? Будет ли он достоин этого? Будет ли на это способен? Мысленно он взывает к предкам, чтобы они одарили его силой своей и достоинством. Благодаря им он сможет одолеть противников. Достоинство прежде всего. Честь еврея, который служит Богу Израиля. Он улыбается с некоторым усилием: