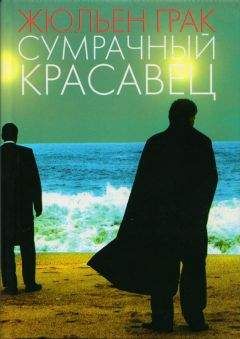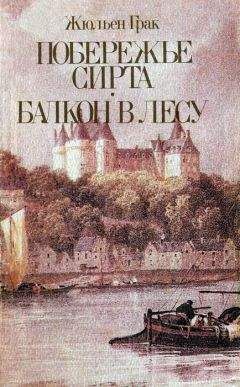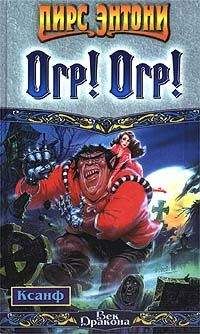Жюльен Грак - Замок Арголь
«Приеду в Арголь в пятницу.[59] Гейде приедет со мной. Герминьен».
Кладбище
Последовавшие затем дни были временем наиболее полных и причудливых каникул. Альбер, словно дитя, радовался своему таинственному месту обитания, отдаваясь очарованию девственной природы, Бретань расточала в это время свои скромные очарования, свои ущербные цветы: дрок, утесник, вереск росли в изобилии в ландах, по которым Альбер каждый день проезжал на лошади, совершая бесконечные прогулки. Часто густой ливень застигал его в полях; и он укрывался тогда в бедных каменных лачугах или под поросшими густым мхом дольменами. И только в лес Сторвана он не отваживался вступить, и ужас, который в самый первый вечер внушила ему гроза, жил постоянно в его сердце.
Тем не менее он работал с пылом, разбирая сложные страницы «Логики», с которой вся гегелевская система, казалось, неожиданно начинала свой вышний ангельский полет.[60] Альбер испытывал огромную любознательность к мифам, убаюкивавшим человечество в его долгой истории, он страстно выискивал в них тайное значение; а потому однажды утром был совершенно поражен, открыв для себя, что Гегель, несмотря на свою многократно подчеркиваемую нелюбовь к примерам, упорно занимался толкованием мифа о грехопадении человека: «Если мы рассмотрим более пристально историю Грехопадения,[61] — писал он, — то обнаружим, что, как я уже говорил, она выявляет универсальное воздействие познания на духовную жизнь. В своей естественной и инстинктивной форме духовная жизнь облачена в одежды невинности и доверчивой простоты, но сама сущность духа предполагает поглощение этого непосредственного условия существования чем-то более возвышенным. Духовное отличается от естественного и, более конкретно, от животной жизни тем, что оно поднимается до познания самого себя и свойственного себе существования. Это раздвоение, в свою очередь, должно исчезнуть и поглотиться чем-то иным, и тогда дух может вновь открыть для себя победоносный путь к примирению. Согласие это есть в таком случае явление духовного порядка, то есть принцип восстановления единства обнаруживается в мышлении и только в мышлении. Рука, наносящая рану, есть также рука, что ее исцеляет».[62]
Радостная уверенность, казалось, изливалась с этих страниц. Конечно, только познание, а не постыдная и свойственная естеству человека любовь, которую Альбер из чувства протеста всегда умел подавлять в себе, могло навсегда привести его к согласию с самим собой; если сам он не ошибается, то так все и обстоит на самом деле: «Вы будете как Боги,[63] познавшие добро и зло», — вот в чем была причина грехопадения, но в этом же был и единственно возможный залог искупления. И еще: «Дух не есть чистый инстинкт,[64] напротив, он предполагает в целом стремление к рассуждению и размышлению. В невинности младенца заключено, без сомнения, много нежности и очарования, но только потому, что она напоминает нам о том, что духу еще придется достигнуть в отношении самого себя». Эта великолепная диалектика была словно дарованным свыше ответом на тревоги Альбера. Итак, освобождает одно лишь познание; необходимое, живое познание; Альбер мысленным взором окинул свою замкнутую, исполненную прилежания жизнь и с гордостью нашел ей полное оправдание. Но эти новые и дикие места, в которые он перенес свое существование, неужели они уже столь сильно затронули романтические фибры его сердца, что у него появилась потребность в оправдании? Подобная реакция его духа кажется ему вызывающей, и в течение нескольких минут быстрым шагом он ходит взад и вперед по террасе.
В Герминьене Альбер вскоре должен был обрести своего самого дорогого друга. Его постоянная непринужденность, твердая поступь, с которой он ступал по земле, его гениальность в сфере темных человеческих страстей[65] пленяли дух Альбера, всегда слишком уж тянувшийся к неземным высотам, слишком склонный парить в опьяняющих и смутных пространствах, за что и получил он прозвище «доктор Фауст», которым, как он помнил, любил, в частности, называть его Герминьен своим глубоким, всегда словно выражающим некоторое сомнение голосом. Герминьен всегда поражал удивительной способностью проникать в тайны самых неявных побудительных причин человеческого поведения. Долгие умственные беседы, часто продолжавшиеся до рассвета в высокой студенческой комнате, свет которой, подобно свету поздней звезды, озарял улицы, или же в деревенском трактире, куда усталость забрасывала их посреди бесшабашной прогулки по полям и где каждый из них добросовестнейшим образом пытался найти наиболее верный ключ к глубоко скрытым сторонам своей натуры в подобии исповеди-диалога, в котором дух, чтобы взять разбег, бесконечно искал опору в другом внимательном и понимающем духе, — все это тут же воскресило в памяти Альбера ощущение этой неотъемлемой способности двойного зрения. Ему всегда казалось, что Герминьен использовал и в будущем всегда будет использовать свой неизменный аналитический дар беспечно и словно играючи. Возможно, те узы, что связывали его с этой жизнью, были не слишком сильными, поскольку его многочисленные и свидетельствующие о высшей проницательности интересы постоянно распылялись. Порой уникальность некоторых редких картин увлекала его в путешествие по музеям Европы, порой женщина на мгновение становилась источником этого жадного человеческого магнетизма[66] — и тогда Герминьен заставлял ее погрузиться в водоворот тех мощных страстей, в котором неразрешимые осложнения возникали на каждом шагу, словно по мановению волшебной палочки. Но все эти страсти всегда неожиданно обрывались именно в тот момент, когда, казалось, они приобретали почти роковой характер, поскольку Герминьен, заметив, что его партнерша уже готовилась выйти на сцену в качестве драматической героини, воодушевляясь на эту роль благодаря услужливому отражению декораций, в которых она могла разыгрывать живую страсть, умел вовремя вооружиться небрежной и саркастической иронией, которую он мастерски использовал, как используют оружие или очарование, и побороть которую не смогла еще ни одна трагическая страсть. Эти эксцентричные игры разума и сердца, на которые он постоянно вдохновлял и незначительность которых сам же ежесекундно разоблачал своим поразительно естественным поведением, оставляли длительное чувство обиды у всех тех, кого он таким образом вынудил войти в роль, заранее прорисованную им в мельчайших деталях. Обладая тонким и совершенным вкусом, Герминьен проник в тайны литературы и искусства, но он скорее раскрыл их механизм, нежели позволил себе прикоснуться к самой сути обаяния, в них заключенного. И все же его рискованным экзерсисам не чужды были и энтузиазм, и холодная дрожь, и подлинное упоение; в таких случаях его спокойное лицо воодушевлялось, глаза загорались, физическая усталость словно бы переставала оказывать какое-либо воздействие на его стальные мускулы и он мог продолжать споры и рассуждения, без всякого усилия со своей стороны, в течение многих дней и ночей, пока они не достигали своего логического завершения. В самые лихорадочные мгновения внутри него жила невозмутимая сдержанность, демоническая трезвость. Может быть, Альбер и ошибся, освятив именем дружбы отношения, которые со всех точек зрения представлялись крайне неясными и которые, при почти полном сходстве их во вкусах, одинаковой манере манипулировать языком, общей для обоих системе ценностей, действовавшей и непрестанно утверждавшейся как существующая и вместе с тем невидимая, словно филигрань, посреди любого разговора, что они вели с каким-либо третьим лицом, заслуживали бы определения во всех смыслах более тревожного, а именно — сообщничества. Столько странных вкусовых пристрастий, ставших их общим достоянием, общих словечек, которые они перенимали друг у друга, идей, сформулированных в беспрерывном столкновении их острых духовных клинков, тайных сигналов, подаваемых одной лишь вибрацией голоса, воспоминанием о книге, арии, имени, которое, в свою очередь, вызывало вереницу иных общих воспоминаний, — все это в конце концов породило между ними опасную, опьяняющую и мерцательную атмосферу, что исчезала и вновь возникала при встречах, как если бы то раздвигались и вновь соединялись пластины электрического конденсатора.[67] Любой предмет, помещенный в центр этого человеческого горна, представал здесь в новом и опасном свете: звучание речи, блеск красоты порождали между ними анормальные и продолжительные вибрации, словно близость этого взвешенного в воздухе, тяжелого и неподвижного человеческого заряда доводила всякое явление до крайней способности взрыва, до последствий непременно бредовых. И оба они с давних пор, сами того не ведая, питались этим воздухом, несвежим и все же более восхитительным и утонченным, чем обычный людской воздух, — то был человеческий сгуститель, рождавшийся, кажется, из союза этих двух схожих существ, которые своими перстами, похожими на быстрые всполохи молний, постоянно указывали друг другу на головокружительный риск и опасность. Дары жизни и красоты, самые волнующие переживания не имели для них ни малейшей ценности, если они не освещались ярким светом этого двойного отражателя, пронзавшего их в мгновение ока своими магическими лучами; и, возможно, оба дошли уже до той стадии, когда они не могли уже более насладиться добычей, не приведя ее к их общему знаменателю, когда они не могли смотреть своими собственными глазами ни на одно из проявлений человеческой жизни, сквозь которое взгляд каждого проникал, как сквозь прозрачный кристалл, если только Другой не предоставлял ему отражающий экран своей опасной внутренней вражды. Потому что они и впрямь были врагами, хотя и не решались в том себе признаться. Они не решались себе признаться в этом, и, как это ни покажется странным, не выносили даже самого отдаленного упоминания об отношениях, которые когда-либо вообще могли существовать между ними. Быть может, Гегель бы и усмехнулся, увидев, как подле каждого из них, словно ангел сумрачный и ликующий, шел призрак одновременно его двойника и противоположности,[68] и, возможно, он и задался бы тогда вопросом о форме той необходимой связи, окончательно прояснить суть которой и есть, среди прочего, одна из основных целей этой книги. Так шли они по жизни, бок о бок и молча, смешивая восхитительный вкус смерти, чей близкий и таинственный образ каждый из них нес в своем существе, с исступленным буйством жизни, бывшей их уделом.