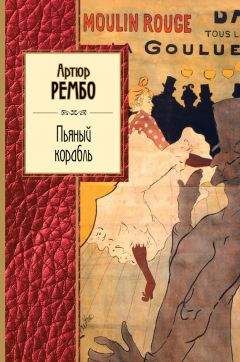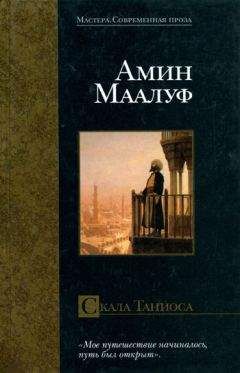Наталья Рубанова - Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы
Он никогда не видел таких лиц, действительно — никогда! И лоб, и нос, и рот, и глаза — все вроде бы такое же, как у всех, но только… — нет, совершенно другое!» В чем разница? — судорожно думал Иван, глядя в зрачки Женщины. — Как будто она родная», — догадался он, но тут же испугался собственной догадки и отвел взгляд.
Сколько у него их? Считал ли? Было или не было? Как он здесь оказался? В этой квартире? С этой Женщиной? Какая у нее удивительная кожа!
…Он долго целовал ее. Кожу.
Женщина, казалось, не дышала — и только стук сердца напоминал о жизни.
— Как тебя зовут? — спросила наконец Она.
— Иван, — ответил Иван.
— А фамилия?
— Среднерусский.
— Почему «средне…»?
— Потому что не новый.
— Приходи. Когда захочешь. Я в твоем полном распоряжении… — до семнадцатого февраля.
— Почему до семнадцатого?
— Ты любопытный, Иван. Я же сказала: в любое время. До семнадцатого.
— А как я у тебя оказался? — спросил Иван снова.
Женщина рассмеялась:
— О, тебя привели мои друзья… Ты был совершенно… никакой… Говорил, что должен лететь в Мексику. Завтра. А еще сказал, что я красивая.
Иван посмотрел на Женщину и снова ощутил: в глазах у него плывет.
— Какое сегодня число?
— Второе. Второе февраля.
— Еще пятнадцать дней. Иди ко мне.
Женщина подвинулась к Ивану; Иван даже не предполагал, что бывают такие искусные ласки.
— Что ты… что ты делаешь со мной… — вырвалось у него, и он стал похож на ребенка.
Женщина удивилась:
— Как — «что»? Люблю…
Он приходил каждый день. Ближе к ночи. Она встречала его в распахнутом шелковом халате. От нее пахло горьким шоколадом, горькими духами и горькими сигаретами.
— Какое сегодня число? — Но она уже не отвечала ему, а только прикладывала палец к губам.
…Они любили до дрожи: ее лоб покрывался испариной, а Иван не знал имени.
Шестнадцатого февраля Женщина стояла лицом к окну, делая вид, что не плачет.
Иван подошел к ней со спины и, резко повернув к себе, спросил:
— Почему?
Женщина долго молчала, глядя Ивану в глаза, судорожно разглаживая мелкие морщинки около них:
— Потому что круглая Земля. Потому что завтра прилетает Она.
— Кто — «она»? — удивился Иван.
— Неважно, — глухо сказала Женщина. — Ты все равно не поймешь.
— Но почему?! — его поразил не столько сам факт присутствия Ее, сколько то, что он «не поймет».
— Потому что мужчина не умеет понимать, — сказала Женщина, изо всех сил старавшаяся не плакать.
— Ты ее… любишь? — Иван взял Женщину за подбородок, и она не отвела его руки.
— Да, но…
— Что — «но»? — взорвался Иван. — Я не могу терять тебя, особенно теперь!!
— Но Она тем более не может. Она прилетит завтра. Мы вместе уже несколько лет. Я… — Женщина закашлялась… — я даже не думала, что смогу так увлечься… м-м… — мужчиной, прости… Но мне нужна Она, — Женщина опять замялась, — и мне нужен ты… Я схожу с ума, я не знаю, что делать. Ты не поймешь, правда — не потому что не можешь, а просто потому, что ты — мужчина. Ты не знаешь многого, хотя… хотя, кажется, ты, вот именно ты и знаешь. Может быть, самое главное и знаешь… Она спасла мне жизнь. Не важно, как. Спасти жизнь — не значит не дать отцепиться альпинистскому тросу… Спасти можно по-разному. Я живу из-за нее. Ею дышу. Мы как будто одно, понимаешь? Две капли — слившиеся. Спаянные. И тут появляешься ты, и я… — Женщина бросилась к Ивану на шею и уже не делала никакого вида.
— Оставь ее, — только и мог сказать он.
Женщина грустно улыбнулась:
— Это невозможно. Она умрет без меня.
— Аты — с ней, — как-то слишком развязно произнес Иван.
…Вдруг раздался скрежет ключа, и через минуту в комнату вошла высокая шатенка в светлом кожаном пальто и с таким же кожаным чемоданом.
Ивану показалось знакомым ее лицо, и он почему-то спросил:
— Вы счастливы?
Женщина швырнула чемодан на пол, а взглянув на стоящую у окна гетеру, прошептала сквозь Ивана:
— Втроем веселей, — и нервно поднеся к сигарете зажигалку, грязно выругалась.
Марк Аврелий
…Я не знаю, как быть с ней дальше. Она, если не красива и не умна, то все-таки Женщина. Я побаиваюсь с некоторых пор женщин, я даже мог бы объяснить, почему, только в этом смысла нет. Я ей это и говорю: смысла нет, а она делает вид, что смеется. Но я-то вижу, как ей этот смех дается. Она раскрывает глаза: вот глаза у нее — это да, есть куда посмотреть — две красивые серые лужи; я в них наступаю, ей в глаза прямо наступаю, — а она ими спрашивает, глазами, она тактична; она без башни, но тактична; я не знаю, как быть с ней дальше.
Не могу в себе разобраться: мне хорошо с ней, легко, можно не притворяться, даже не бриться, можно все что угодно, но последнее время она молчит, только глазами. Мне от этого немого взгляда убежать хочется — две шикарные серые лужи; правда — шикарные. Но особенно хочется убежать утром, я боюсь у нее задержаться надолго. Она живет если не одна, то преимущественно одна. Она звонит, если только напивается; значит, она напивается как минимум раз в две недели, вот и просит приехать, но не в лоб, а вскользь — типа, у нее сейчас никого нет, вчера была зарплата, она решила устроить праздник, ну, совершенно просто так — праздник; иногда я сдаюсь — еду, и нам бывает здорово, но утром я хочу уйти, а она напивается как минимум раз в две недели; ее жалко, но я не могу себя связывать, я не сделал еще главного. «Что для тебя главное?» — это она когда-то спросила, деланно усмехаясь.
А действительно, что для меня главное?
Хочу стать известным? Хочу, да, но не это главное. А что? Я ей тогда начал нести чушь о высших материях, втирать про несуществующее предназначение, а она улыбалась еле-еле, и глаза — эти две жуткие серые лужи — как у мертвой волчицы. Я видел в лесу мертвую волчицу — на охоте, в октябре, года три назад, — она лежала, серая, как ее два глаза, а в животе лежали волчата, и волчица эта была Женщина, я не забуду ее, волчицу, и вот она — Она тогда смотрела на меня, как неживая.
«А для тебя?» — спросил я.
Она опять усмехнулась зачем-то, зло как-то усмехнулась, и натянула одеяло до подбородка. Потом сказала: «Ну не люблю же я тебя, понимаешь». Думаю, она играла, а потом еще сказала: «Мужики — не главное, детей не хочу, работу терпеть не могу, ориентацию менять хлопотно, а чтобы думать о душе, надо ее хотя бы иметь. Знаешь, для меня главное — опять начать иметь душу, а то все душа меня имеет, я же ее — никак».
Потом мы этот разговор проехали, и она начала ни с того ни с сего жаловаться на своего экс — про занудство, про скуку; я слушал, ее было опять жалко — зачем она два месяца с ним все это проделывала, так и не понял.
Она вообще странная, Ленка. Я ей как-то сказал: «Ну заведи себе нормального кого-нибудь, сколько можно, ты же женщина, тебе это, к сожалению, нужно». А она головой качает: «Не могу, — говорит, — больше, не могу. Все, кого любила, советовали завести нормального».
Что я мог сказать ей? Что сделать? Цветы купить? Купил как-то. Две белые, одну красную.
Оказалось 23 февраля; поржали. Она смешливая, Ленка. Только глазами не смеется, плачет она ими, что ли? Поэтому с утра так хочется уйти. Я боюсь, будто она меня привяжет, а я не могу, хотя у нас веселенькая семейка получилась бы. Иногда я представляю ее в роли жены — только она была бы нетрадиционной женой, это же цирк — Ленка!
Она и йогой когда-то занималась, и вокалом, и птиц каких-то разводила, — а потом всех их выпустила, сейчас только клетки остались.
Как она живет, я стараюсь не думать. Она сама старается не думать.
Она, маленькая, мне по плечо. Она…
Как-то она позвонила — в один из тех запоев — и сказала, что сожгла «Идиота», только что, в туалете, и что унитаз теперь черный, не мог бы я в следующий раз приехать с «Пемоксолью»? А я сказал, что смог бы, я приехал, я испугался, что она спалит всю квартиру. «У тебя болезнь Дауна или кого?» — «Достоевский стал раздражать, представь себе, — так ответила. — Хоть одним идиотом меньше». — «Ленка, ты как Настасья Филипповна», — говорю. «Ты знаком с Настасьей Филипповной?» — спрашивает. «Знаком», — отвечаю. А что я ей мог ответить — пьяной, всем миром неудовлетворенной Ленке?
Она разбила чашку, чтобы издать хоть какой-то звук, а вскоре бросила пить: я ей даже завидовал, — но и звонить перестала.
Потом привык; мне казалось, что чего-то не хватает, а не хватало как раз Ленки; меня все устраивало в этом мире, кроме женщин, я же говорю, я их боялся немного. Боялся их хотеть, боялся, что они могут бросить, или забеременеют, и придется тащиться на аборт или — еще хуже — жениться, боялся разочароваться, боялся забыть ту девочку, с которой до нашей эры гулял на Патриках… Она была пианистка — очень красивая, она играет сейчас в Европе, а мы — мы не Европа; пианистка бросила меня; я боялся, что меня бросят еще раз: это жутко, если любишь, а я любил, мы ездили в Петергоф, у нее бабушка в Питере, мы сидели в центре Дворцовой площади, я был похож на теленка, меня можно было убить: я никогда никого так не любил, а она меня бросила, с тех пор я многого себе не разрешаю, да уже и не нужно; только у Ленки иногда ночую. Неужели она правда меня любит? Ведь говорит — все наоборот…