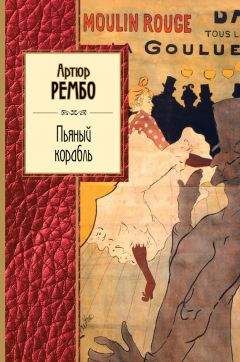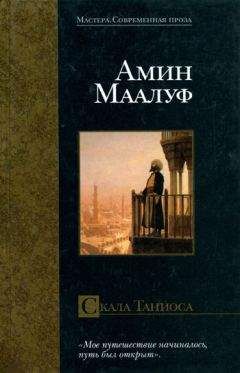Наталья Рубанова - Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы
Ты думаешь, я настолько глупа, что ничего не понимаю?
Ты хочешь жить своей жизнью; я тоже не хочу ни с кем делить тебя. Мы так одинаковы и так несхожи! Как мы одиноки с тобой!! Никто из людей так не одинок, как мы друг без друга — ведь мы так долго были одним. Так коротко… Я не знаю, нужно ли глотать таблетки, все равно вырвет… Наверное, нужно уколы… Нужно ли уколы?
Когда-нибудь я не смогу даже писать. Я так любила писать тебе. Я счастлива, что мы были. Ты тоже когда-нибудь поймешь это. Скоро, очень-очень скоро…
Если бы была еще одна жизнь, мы могли бы видеться чаще. Впрочем, хорошо, что ты сейчас меня не видишь, я останусь в твоих глазах сильной… Сильной? Я помню только твои глаза — они, как мои, — такие же странные, только другого цвета. Я любила в тебе больше всего — глаза. В них было больше всего — тебя.
Скорей бы все закончилось, скорей бы…
Забыла единственную молитву, которую знала…
А потом придешь ко мне…
Я ведь должна думать о тех, кто рядом… Почему я думаю о тебе (себе), я устала от тебя (себя), тебя нет, ты — где-то, ты хочешь что-то доказать, а я чувствую конец; только очень коротко…
Меня заметет снег. Скорей бы.
Я уснула. Я вижу Небо. Больше нет рвоты и этого холодного липкого пота. Я это или не? Новая я?
Ок. Ты куришь на кухне. Плачешь. Мне жаль тебя (себя) оттого, что пока тебе (мне) не доступна жалось ко мне (себе). Ты очень искренне ненавидишь. Ничего, и это пройдет…
Это только приснилось, это только сон. Сон с легким покалыванием в кончиках пальцев. Даже не знаю, сколько прошло дней, может, это только сутки? Время тянется; время изнашивает меня, тебя, себя. Я просыпаюсь и не хочу (= не могу) встать, да это уже и не нужно; это совсем никому не нужно, разве что человеку, приносящему таблетки…
Помнишь, мы говорили о параллельных прямых, пересекающихся в бесконечно удаленной точке? Мы думали, будто мы и есть параллельные прямые — с недоступным в реале пересечением. Но оказались иными — скрещивающимися, которые лишь на миг соединяются, врастают, вгрызаются друг в друга, а потом разлетаются в разные стороны, совсем в противоположные…
Не верилось. Не верится. Тошнит каждый час.
Я в больнице. Как «раз». Я не могу больше писать, я боялась — как «два» — этого. Меня увезли вчера; все говорят, что я без сознания, но я почему-то все слышу. Я пишу тебе губами, хотя никто этого не может заметить. Я думаю не только о тебе. Но и о тебе — слишком много.
В вены всажено несколько трубочек с неопознанными мною жидкостями; странно, я совершенно не ощущаю вползания — в себя — иголки, наверное, перестаю чувствовать боль. Физическую. Вот бы и с другой — так.
Ко мне никого не впускают, но я вижу всех — они там, за дверью. Он — тоже. Он сидит на стуле, обхватив руками голову. Он страдает: не знает, что меня здесь уже нет…
Только что сняли все эти трубочки, все эти капельницы; я опять ничего не ощутила. Как сладко потерять навсегда страдание, нет, нет, молчи, ты не знаешь об этом ни-че-го — точно так же, как не знала об этом раньше — я…
Представь: нет жжения, тошноты нет, рук, ног, глаз. Носа нет. Губ. Тела нет. Точнее, оно как бы есть, только совсем незаметное, больше не нужное. Мы искали с тобой когда-то «смысл» — помнишь, вечерами, под длинные — красивые и не очень — разговоры?
Так вот, я нашла его, только теперь без кавычек; ты ждешь, чтобы я рассказала?
Когда-нибудь у тебя тоже не станет рук, ног, глаз. Носа не станет. Губ. Всего тела. Оно где-то будет, только совсем незаметное, тебе — не нужное. Тогда ты внезапно поймешь меня, поймешь тщету поисков «смысла» красивыми длинными вечерами, которые, впрочем, у нас с тобой летели быстро, ах, как быстро! Нам всегда не хватало времени, к тому же мы всегда зачем-то от всех прятались… Телом нельзя заменить смысл. Но, когда человек все еще тело, смысла в одной лишь душе он не найдет: как мы. (Какие мы были неприкаянные!) Я хочу, я желаю тебе быстрее пройти этот срок — в кавычках и без…
Не плачь обо мне, не надо, не привязывай, я тоже мучаюсь, когда ты мучаешься, я вижу тебя, я к тебе прикасаюсь, но ты не можешь знать, не можешь, ты винишь себя во всем, не надо, не надо, никто ни в чем не виноват, мы просто слишком сильно любили, да, это радость, это дар, но очень хрупкий, нам подарили и очень скоро отобрали, а потом у тебя забрали меня насовсем, но не только у тебя, Ему тоже плохо, им всем — тоже, тебе, быть может, в чем-то легче, не страдай, не хочу я этого, не хочу, не хочу, не хочу, никогда не хотела — твоего страдания; иногда — да, делала больно — но затем лишь, чтобы быть уверенной… Самоутверждалась. Людям иногда нужно это. Но мы же друг друга простили, простили — и — расстались. Ты только не бойся слова «навсегда», ведь ничего не бывает навсегда, пойми…
Живи так, чтобы не стыдиться. И чтобы не стыдиться меня. Знаю, знаю, — тебя гнетет именно эта гадина — совесть…
Ты делаешь все правильно; ведь ты — это я, как в банальной песенке; мы же — слившаяся капля, мы даже не расставались никогда; как ты не поймешь, как объяснить тебе; надо ли объяснять тебе?! Ты — здесь, я — там, или — я — здесь, ты — там, мы одно, неделимое, кладбище не является границей; когда ты перейдешь эту черту, мы будем вместе, — если все будет хорошо, — если, если… Я обещаю тебе это; я люблю тебя, я люблю тебя, я же просто очень люблю тебя, только и всего…
Зинаида как она есть
Зинаида проснулась. А как проснулась, так и плюнула: до чертиков знакомое, оплывшее тело мужа было до отвращения изучено и не вызывало ничего, кроме желания пнуть его ногой: ударить, да побольнее, будто тварь какую паршивую. Зинаида спрыгнула с кровати, снова плюнула, да и смахнула с лица злые слезы.
Нет, нет, не такой ей представлялась жизнь, не так она хотела… а как хотела и как представляла — того уж никому не расскажешь. «С жиру бесишься, — говорили ей немногие, кому открывалась случайно непонятная эта изнанка Зинаидиной жизни. — Дурью страдаешь. Смотри, мужик-то у тебя вон какой ладный да круглый, не пьет-не бьет, все в дом…»
Зинаида тоскливо посмотрела на ладного мужика, и проглотила обиду. В школу ужас как не хотелось; еще бы — по холодку-то! До школы пока доплетешься, весь шарф сосульками покроется — даром, не зазвенит. Зинаида посокрушалась-посокрушалась, себя жалеючи, но неудачи-то в коробочку собрала да на замок амбарный и закрыла: нечего, нечего, сейчас вон юбку быстро погладить, да чулки в потемках-то найти, пока этот спит, этого же будить нельзя; устает, «кормилец» херов, да и жалко вроде — хоть и скотинка, конечно, а вроде своя, не важно, что не по крови — да и куда ж по крови-то, раз кровь-то у него непромытая, у самой в жилах стынет от его крови такой!
Зинаида оделась и, попив пустого чаю, вышла на мороз. Эх, мать-перемать, даром, училка английского! А какой английский в глухой деревне для выводка даунов в собственном классе? Они по-русски-то еле могут, а тут: «Good morning, children! Who is on duty today?» Тьфу ты, провались оно все, провались оно все трижды, трижды, трижды!!
Зинаида пробиралась к школе по темной еще тропке и подрагивала — она всегда шла в такую рань со смешанным чувством страха и неприязни; какое там «гуд монинг», сплошное «дьюти» — и так всю жизнь, всю жизнь… За что? И занесло же ее сюда, в дыру эту! А ведь могла бы… могла бы… могла бы что? Mother fucker!! Mother fucker!!! Mother fucker!!!!!!! A-a-a-a-a-a… A?
— Здрасте, Зинаид Сергевн!
Ученик Сальников прошлепал к входной двери, отряхнул снег с валенок, скрипнул чем-то. «Тоска, какая же тоска!» — чуть не в голос взвыла Зинаида, чудом зацепившись о заржавелую ручку, за которой…
— Доброе утро, Нина Петровна, — и надела масочку.
— Доброе, доброе; ты что-то припозднилась, звонок через семь минут, — запела директриса.
«Корова старая, — прошелестело в мозгу у Зинаиды совершенно традиционно, как шелестелело каждое утро в течение двух уже лет, и пошла к классу. — Идиотка».
Уроки тянулись в этот день дольше обычного, просто нестерпимо долго! Зинаида устроила во всех группах контрольные по грамматике, чтобы не разговаривать даже на языке Диккенса: сколько можно, все равно без толку, да и зачем в деревне английский, все равно пропадет добро — ведь только глупые уверяют, будто знаний лишних не бывает, — а они бывают, бывают, еще как!
И угораздило ж за военного! Куда понесло? Зачем? Чего она по гарнизонам не видела? Жен пирожковообразных, жиром заплывающих, обоев безвкусных, храпа моментального, формы вонючей? Эх, жила ведь в городе, жила себе, на инязе училась, могла бы переводчицей… да хоть кем… а тут… деревня, блин, и муж противен уже, так противен, что хоть в петлю, если не к маме…
— Зинаид Сергевн, а обязательно в будущем времени писать?
— Обязательно, — рассеянно отвечала Зинаида, не требуя английских названий времен: какая разница?