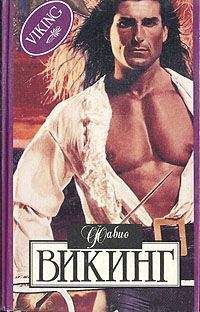Теодор Вульфович - Моё неснятое кино
Зал слушал умиленно, сиял общим сиянием — большинство лиц было женских и восторженных. Несколько раз аплодировали, даже смеялись громко. Не нужно вспоминать, о чем я говорил, это не имело никакого значения, важно было, как бодро я говорил… Зал был горд — вот, де, растет племя, уже способное взобраться на трибуну и произнести что-то если не членораздельное, то звучное!.. В массе лиц промелькнуло лицо старшей пионервожатой — как быстро она пробралась вперед, — миловидная, короткостриженная дылда озиралась по сторонам и была так горда, словно эти аплодисменты предназначались ей одной. А может быть, так оно и было. А вот когда я действительно закончил поздравительно-критическое выступление и нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущую обратно в зал, поверх аплодисментов услышал за спиной властно отчетливый окрик из президиума: «А ну-ка, орел, иди сюда!», — я оглянулся и чуть не загремел со всех ступенек.
В центре президиума, возле графина с водой, сидел сам начальник ГУЛАГа НКВД СССР Матвей Семенович Берман… Смятение, ощущение полного провала, у меня просто отнялись ноги, и я чуть не сел на пол. Но тут кругом было много заботливых рук: подхватили, почти понесли. Что-то сдвигали, уступали свои места, втискивали еще один стул в переуплотненное пространство, и я очутился в центре президиума. Стиснутое множество, и я в самой середине. А рядом справа рыжий Матвей Берман.
Зал ликовал, и в моем воображении промелькнула четырнадцатилетняя Мамлякат Рахимова, которую сам Сталин на съезде колхозников-ударников то ли поднял на руки, то ли поставил прямо на стол, и она его, кажется, облобызала.
«Горе! За что такое наказание?» — я вообще терпеть не мог всяких лобызаний. Было ощущение захлопнувшейся ловушки, нестерпимая сухость в горле. И тут я услышал рядом у самого уха:
— Сиди ровно… Ну-ну, держись, орел! — Дался же ему этот пернатый с загнутым клювом.
Берман, слава Аллаху, не лез с лобызаниями. Не тот дядя. Он налил не из графина, а из отдельно стоящей бутылки полстакана минеральной и поставил передо мной. Я выпил залпом.
— Вот так, молодец, — одобрил он мою решительность. — Хорошо, хорошо, говорил.
На трибуну уже взгромоздилась ораторша, но я не мог разобрать, о чем она говорила, хоть кричала она так, словно выступала в обществе безнадежно глухих.
Я постепенно приходил в себя.
— Отца выпустили? — Очень тихо спросил Берман. Я покачал головой, мол, «нет».
— Ничего. Скоро выпустят, — пообещал Берман, будто что-то знал наперед, и спросил: — А в школе знают?
— Нет.
— Правильно. Не говори, — выходило, будто в президиуме два субъекта из одной компашки обмениваются кодовыми репликами. — А в комсомол?
И тут я мотнул головой, мол, «нет и нет».
— Зря, — хоть и тихо, но решительно произнес он.
— Подавай. Пока суд да дело — отца выпустят.
— А не…
— Подавай, ни с кем не советуйся, — произнес он. — Про отца ни слова…
«Ну и ну… это уж вовсе ни в какие ворота. Но не возражать же ему прямо здесь. Ведь Берман — это Берман. Я все еще полагал, что врать не то что при вступлении в комсомол, но и в обыденности вовсе не обязательно. Даже постыдно — несмотря на то, что все кругом врали напропалую… Может, никому ничего не говорить. Можно не касаться этой темы — и так все всё знают или догадываются… Но врать?!»
— Никуда не уходи. После нее буду выступать я. А потом мы с тобой еще… Сиди, жди.
Кажется, я уже пришел в себя и спросил:
— А вы здесь кто? — Опять этот дурацкий вопрос.
— Вот теперь нарком, — чуть поморщился Берман. И только тут я увидел, что на гимнастерке нет петлиц и ромбов нет. Один орден «Красного Знамени» остался. Берман выглядел довольно бодро, время от времени кому-то улыбался широкой ободряющей улыбкой вождя, такая улыбка уже прочно вошла в моду. Но ведь не один Берман знал что-то, и остальные тоже кое-что знали. Знал и я, что к этому времени должность Народного комиссара связи стала должностью пересадочной — отсюда никто еще не ушел на повышение, отсюда все по очереди уходили или на скамью подсудимых — «на процесс», или в небытие. И все аплодирующие и кричащие в этом зале тоже знали — три-четыре месяца Нарком — и тю-тю. Многие уже многое знали наперед, но были словно загипнотизированные… Мне и по сей день кажется, что про себя самого Берман не знал ничего, даже не чувствовал. Иначе вел бы себя как-то по-другому. Нет!
Ничего он про себя не понимал. И не знал. Ближайшие события это доказали.
Нарком стоял на трибуне и говорил: уверенно, по-кировски выбрасывал раскрытую ладонь в зал, говорил не по бумажке, в ораторской манере, вроде бы широко охватывая весь зал. Он шутил, — смеялись, — предлагал ввести плату за телеграфные бланки. Чтобы люди бережнее относились к государственному имуществу, даже если это линованная бумажка. Зал единодушно аплодировал. «Как это раньше никому в голову не пришла такая значительная мысль? Драть с каждого по две копейки за листочек… А ведь и вправду, как здорово, сначала думать будут, а потом писать свои телеграммы. А то ведь — сначала пишут, а потом думают…»
Он вернулся в президиум всклокоченный, возбужденный — была вроде бы овация и всеобщий восторг. Но какие-то не вполне настоящие. Выкрики отдельные раздались: «Да здравствует…», но без общего вставания… Берман сразу как-то сник и стал рассеян. Потом еще немного поговорил со мной, но уже напоказ, для окружающих. Вожатой Антонине велел беречь таких «орлов» и пестовать… Поблагодарил ее — она чуть не взвилась под потолок от счастья и дербалызнула меня ладонью по плечу, довольно больно… А меня охватила тревога и скулящий озноб, теперь уже за папу. Все происходящее показалось шатким, ненадежным, ускользающим.
— На концерт оставайся… Хороший будет… Если что, дай о себе знать — туманно проговорил Берман, но мне показалось, что мы попрощались навсегда. Лицом он резко изменился, взгляд ушел куда-то вдаль. Берман двинулся к выходу. Его сопровождала целая свита… И мне показалось, что его излишне выпрямленная спина демонстративно указывает на то, что ее владелец уходит вообще в туманную неизвестность. И свита туда же…
Видно, вся совокупность ИТЛов — лагерей всех степеней, градаций и строгостей, в устройство которых и становление он вложил столько сил, организаторского пыла, выдумки, если хотите, дьявольской изобретательности, — по размаху и территории еще одна Евро-Азия… Видно этот новый континент почти сразу стал приобретать и возымел особые магические свойства — начал притягивать к себе, а там и засасывать, своих собственных созидателей, своих архитекторов, владык и даже рядовых охранников…
Каждому свои подмостки, каждому своя роль, каждому свой зритель. Вот вам и театр всеобщего кошмара.
Глава третья МАСКАРАДНАЯВсе, что в дальнейшем произошло, я узнал много позднее. Собственно, детали узнал позднее, а суть была на виду сразу. Матвей Берман не долго пробыл на посту Народного Комиссара Связи. И его — о, чудо! — бывает же и такое… — отозвали и снова назначили заместителем нового наркома, снова начальником ГУЛАГа НКВД СССР. И задачи поставили совсем новые, доселе невиданные, и перспективы расширили, и штаты… Да и Нар-комвнудел уже был обновленный.
Кругом все ахнули, усомнились поначалу, не поверили, а Берман и глазом не моргнул — знал, что без него в таком сложном, многогранном и запутанном хозяйстве не обойтись. Неугомонный Матвей опять влетел в лагерную преисподнюю, да не куда-нибудь, а на самый верх! Первое, что он сделал, это стал собирать своих прокаленных чекистов, тех, на кого можно было бы положиться, как на самого себя. Так он сам говорил.
Разумеется, из тех, что уцелели, кое-кого пришлось выцарапывать из самых дальних лагерей и загонов, где они уже сидели, как заядлые враги народа, а кое-кого и помянуть молча следовало — отлетели, пущенные в расход. Не ныл, не жаловался. Работал круглосуточно и сотрудникам спуску не давал. Ведь с одной стороны, за эти месяцы личный состав изрядно поубавился, с другой — сильно увеличился (в три-четыре раза). Ну, а все гулаговское хозяйство, вся громадина эта разрослась непомерно. Это всего за несколько месяцев его отсутствия. Забот — «полна пазуха и рот»! Но у большевиков нет ничего невыполнимого: «Любое задание Родины и лично Ваше, товарищ Сталин…»
Но не так уж и долго пробыл энергичный и решительный Матвей в этой должности. Оглянуться не успел толком и десятой доли своих государственных замыслов не осуществил…
Подкатил семейный праздник у друга и соратника — Петровича Петра Александровича. Того самого, что был начальником Вяземлага и дотягивал, достраивал со своими упорными зеками всю автостраду от Москвы аж до самого Минска. Накатил, навалился день рождения дражайшей половины. Жена — это вам не хухры-мухры. А день тот был 15 сентября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Место действия — знаменитейший доходный дом в Гнездниковском (переулок прямо против Елисеевского гастронома на Тверской). Там в полуподвале цыганский театр «РОМЭН» находился… Надо было отметить как следует — уж больно тревожное и трепетное время накатилось — и воспользоваться случаем, укрепить ряды уцелевших ветеранов, вдохнуть в них новые силы, тряхнуть стариной, подтянуться, а может, и к грядущему подготовиться… Чудаки — разве к нашему грядущему можно подготовиться? На то оно и грядет — не только набегает, а ударяет внезапно! Дрожь была, но верили, что ему, Матвею, вот-вот снова, несмотря ни на что удастся отковать или точнее возродить новый, невиданный доселе, непрошибаемый монолит — ГУЛАГ № 2.