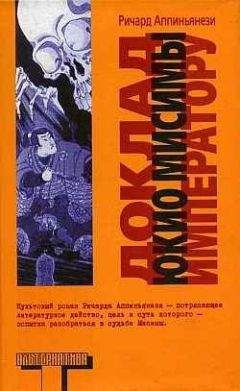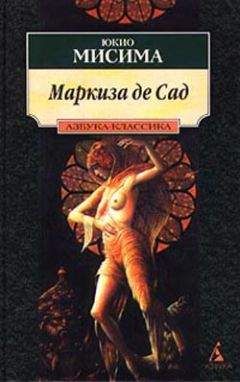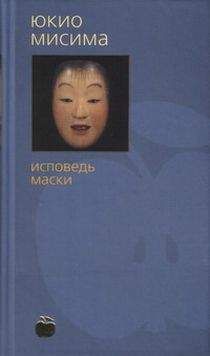Джеймс Хайнс - Рассказ лектора
Нельсон сошел в начале Мичиган-авеню, неловко зажимая портфель под мышкой. Гасли фонари. Нельсон брел по пустой улице мимо темных витрин: магазины открывались гораздо позже. Он миновал книжный с университетскими сборниками на металлических стеллажах, ларек, где торговали презервативами, леденцами и уцененными компакт-дисками, кафетерий гастронома с перевернутыми на столы стульями. «Пандемониум», модное кафе, где студенты за круглыми столиками читали Пруста или Фуко, открывалось в девять. В такую рань работала только забегаловка, где кофе подавали в бумажных стаканчиках.
Нельсон знал, что одной рукой со стаканчиком не управится, поэтому влился в поток людей, направляющихся к университету: в этот час его составляли только секретарши в брючных костюмах да техники в джинсах. Нельсон был начеку: здесь обычно ошивался верзила-бомж, которого он называл Фу Манчу из-за длинных рыжих усов, свисавших до щетинистого подбородка. Как помоечный пес, бомж чувствовал страх Нельсона и цеплялся к нему почти каждый раз. Иногда Нельсон думал, что бродягу привлекает оранжевая парка, но денег на новое пальто все равно не было. Сейчас он был почти уверен, что проскочил, однако тут из-за канцтоваров выступил Фу Манчу и, скрестив лапищи на груди, животом преградил дорогу. Сегодня с утра он повязал сальные рыжие волосы платком в виде американского флага, отчего стал похож на опустившегося борца за права животных.
— Помогите бездомному, сэр! — Фу Манчу злобно зыркнул на Нельсона.
Нельсон замычал и попробовал обойти попрошайку, но зловредный бомж не отставал.
— Эй, паскуда! Ты ничем не лучше других!
По крайней мере в этом вопросе Фу Манчу был полностью солидарен с Викторией Викторинис. Пришитый палец заболел сильнее, Нельсон сморщился и ускорил шаг. Доктор сказал, что чувствительность не восстановится, тем не менее палец определенно жгло. О чем бы таком подумать, чтобы отвлечься? Часовая башня Торнфильдской библиотеки вздымалась над голыми сучьями, и Нельсон попытался вспомнить, что слышал о призраке. Вроде бы кто-то бросился с башни… у первокурсников это была обманутая девушка, у дипломников — студент, не сдавший зачеты, у молодых преподавателей — лектор, которого так и не взяли на постоянную должность. Нельсону самому несколько раз чудился за декоративными зубцами черный силуэт. Впрочем, сегодня на башне никого не было, стрелки подрагивали около восьми.
Вот и высокая прямоугольная коробка Харбор-холла. На всех этажах, кроме восьмого, узкие длинные коридоры были облицованы серым глазурованным кирпичом и застелены линолеумом; плохо освещенные, они даже в ясные дни производили впечатление университетской бойлерной. На третьем этаже, сразу у лифта, Нельсон, примостив на колене портфель, одной рукой затолкал письма в почтовый ящик и услышал, как они провалились вниз. У двери своего кабинета он зажал портфель под мышкой, кое-как отпер замок и щелкнул выключателем — комнату залил неестественный дневной свет. Пристроившись на краешке стула, Нельсон левой рукой вытащил из портфеля студенческие работы.
Направляясь в толпе студентов к соседнему учебному корпусу, он держал больную руку у груди и думал, что скажет группе о несчастном случае. Надо войти с улыбкой, выждать секунду, чтобы заметили бинты, подмигнуть и сказать: «Я порезался, когда брился». Однако из тридцати студентов четырнадцать отсутствовали, а шестнадцать лежали головами на партах, опухшие и с красными глазами после бурных выходных. Не явились четверка студентов, готовивших выступления на тему «Момент озарения в моей жизни», и Нельсон несколько минут одной рукой перелистывал методичку, ища не самое скучное задание. Литературной композиции учили теперь совсем не так, как самого Нельсона; это была на треть учеба, на две трети — психологический практикум. В литературных отрывках студентам следовало черпать материал для развития собственной личности, даже если отрывки эти никак не соотносились с жизнью молодых состоятельных американцев. Кроме того, приветствовалось свободное выражение мыслей, без оглядки на возможные противоречия, а Нельсону строжайше запрещалось править сочинения красной ручкой, дабы не породить комплексов.
Наконец он попросил их прочесть в хрестоматии стихотворение Рендалла Джаррела «Смерть канонира» и выполнить сопутствующее упражнение: «Что бы вы чувствовали на месте канонира?». Нельсон разбил студентов на две группы для обсуждения этого маловероятного сценария, а сам стиснул зубы, превозмогая боль в пальце.
На перемене он постоял у торгового автомата в переходе между двумя зданиями, просчитывая, может ли позволить себе банку кока-колы, но сообразил, что все равно не сумеет левой рукой вынуть из правого кармана мелочь, поэтому вернулся в кабинет, откинулся на сером скрипящем стуле, забросил длинные ноги на стол и стал смотреть, как по площади идут из корпуса в корпус студенты. Зрелище это, вопреки обыкновению, не радовало, и Нельсон опустил жалюзи. Палец горел; в кармане лежала половина таблетки болеутоляющего, но принимать ее было рано, да и запить нечем. Нельсон взял тяжелую синюю кружку, которую Бриджит слепила ему на практических занятиях по гончарному делу. Кружка запылилась; Нельсон взвесил ее на руке, раздумывая, сколько унижений согласен претерпеть, чтобы ее наполнить.
Он встал. За кофе надо было идти в профессорскую, где каждый день наливали разный импортный кофе из большой серебряной бадьи, сверкающей и имманентной, словно Святой Грааль. Дверь Нельсон запирать не стал, чтобы снова не возиться с ключами, и пошел по темному коридору к лифту. Он надеялся, что кабина окажется пустой, и, увидев там человека, едва не шагнул назад. Однако это был всего лишь Стивен Майкл Стивенс, и он спал. Нельсон вошел в лифт и нажал кнопку своего этажа. Двери с грохотом съехались. Веки у профессора Стивенса чуть дрогнули.
Лифт пошел вверх. Жжение в пальце усилилось, у Нельсона на лбу выступил пот. Он искоса взглянул на более удачливого коллегу.
Стивен Майкл Стивенс спал стоя, привалившись спиной к стене и сцепив руки под животом, грудь его медленно вздымалась и опадала. Одет он был, как всегда, на зависть — прекрасные шерстяные брюки, дорогой ворсистый пиджак поверх пестрого свитера, однако под глазами, тоже как всегда, висели мешки, а черная кожа отливала нездоровой серостью. Как старший афро-американец на факультете, он зарабатывал больше всех, если не считать самого декана. Первая же, полуавтобиографическая, книга принесла ему литературную премию и постоянную должность в университете. Предполагалось, что писать Стивенс больше не будет, а будет составлять ежегодный отчет о преодолении половой и расовой дискриминации, привлекать к работе новых талантливых афро-американцев, наставлять молодых сотрудников афро-американского происхождения, консультировать афро-американских студентов и аспирантов, вести научный семинар по афро-американской литературе и вообще разъяснять белым, как ведут себя и думают черные — страстно, умело, но без злобы и не растравляя чувство исторической вины. Короче, предполагалось, что он будет вкалывать, как негр, и являть соплеменникам пример для подражания. В результате у него не было времени на сон, не то что на личную жизнь. Собственной работы он не вел, если не считать интервью глянцевым журналам, когда те подбирали материал о черных знаменитостях, да выступления в телевизионных программах, посвященных расовому многообразию Америки. В итоге профессор Стивенс засыпал где и когда придется. Стоя в лифте, он посапывал и что-то бормотал во сне.
Лифт остановился на восьмом этаже, двери разъехались; Стивен Майкл Стивенс не шелохнулся. Нельсон подождал, но, когда двери начали закрываться снова, придержал их и легонько потряс коллегу за ворсистое плечо. Профессор Стивенс открыл глаза. — Да, эфенди, — пробормотал он. В последнее время Стивен Майкл Стивенс перенес профессиональные интересы в сферу кино, в особенности — на широкоформатные колониальные эпопеи конца пятидесятых — начала шестидесятых. Каждый семестр на своих широко посещаемых лекциях профессор Стивенс крутил такие фильмы, как «Хартум» и «Пятьдесят пять дней в Пекине», в старом кинотеатре, расположенном в самом центре Гамильтон-гровз. Эти фильмы не только позволяли ознакомить слушателей с проблемами расизма, империализма и постколониальной теории, но и длились достаточно долго, так что профессор Стивенс мог проспать в темноте два, а то и три часа кряду. Уверяли, что он не видел до конца ни одного фильма, но как-то вбирал их порами, особенно «Лоуренса Аравийского». Если, как сейчас Нельсон, внезапно его разбудить, можно было услышать в ответ проникновенные раскаты Питера О'Тула.
— М-м, вы не выходите? — спросил Нельсон. Вглядываясь вдаль, словно оттуда вот-вот появится
турецкий поезд, и соединив ладони перед грудью, профессор Стивенс выплыл из лифта; пиджак развевался у него за спиной, как бурнус бедуина.