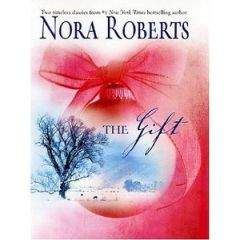Лора Белоиван - Чемоданный роман
Японцы не знали роздыху от криминальных элементов, с готовностью соглашавшихся на интервью: в нашем фильме был задействован весь оперативный состав отдела УБНОН. Милиционеры, исполнявшие роли торговцев оружием, суммарно обошлись мне в пятьсот долларов.
Стас был восхитителен в роли лоховатого стармеха, которого злые бандиты заставили возить в Японию небольшие промышленные партии «Макаров» бакинского производства: зато, что он врезался на своей «королле» в бандитский «прадо» выпуска XXII века. Весь этот дебильный сценарий был написан мною, за что, наверное, мне еще предстоит ответить на вопросы рогато-хвостатых репортеров, организующих брифинги в антураже котлов и раскаленной серы. А Стас мялся, заикался и говорил, что понимает всю гнусность своих курьерских рейсов, но в милицию не пойдет, потому что она продажная. Его рука, которой он оперся на оградку Михаила Ефимовича Свиридова, 1898–1963, дрожала, будто он держал ее на Библии, клянясь, что убил собственную мать только потому, что был сильно голоден (да, господа присяжные заседатели, это правда: идея провести съемку эпизода «Стармех» на заброшенном кладбище Моргородка тоже принадлежала мне).
Обладая некоторым свойством метафоризировать происходящее, я отвлеклась на наших молчаливых свидетелей и поразилась, насколько внимательно они на нас смотрят. Памятники заросли многолетним кладбищенским бурьяном, закрывающим портреты в овальных рамках. Казалось, мертвецы по пояс вылезли из-под земли и подглядывают сквозь траву за нами, чтобы не пропустить главное. Я сделала «брррррррр» и подошла поближе к Михаилу Ефимовичу Свиридову, на глазах которого как раз в этот момент старший механик торгового флота, капитан милиции Стас Турков кивнул японцу, подтверждая, что и сейчас, на кладбище, один экземпляр пистолета Макарова греет его криминальную душу.
Японцы у нас ничему не удивлялись. Их удивило бы скорее какое-нибудь случайное попадание нашего человека в норму. Например, большинство японцев были искренне убеждены, что русские все поголовно знакомы друг с другом, и именно эта уникальная национальная особенность помогает нам сообща работать на мафию. Данная легенда о россиянах как раз и объясняла, почему Хирумицу на карем своем раскосом глазу всучил мне совершенно нереальное техзадание — устроить ему съемки бандитских откровений.
Зря я боялась, что японцы расколют моего «стармеха», как фундук, когда этот видавший виды опер сунул руку за пазуху и неуловимым, годами отработанным движением большого пальца правой руки освободил свой штатный «Макаров» от обоймы — и только потом, только потом! — вынул пистолет на обозрение Хирумицу, оператора Токадо и несчастного Михаила Ефимовича Свиридова, который к тому моменту уже так много знал, что был явно не жилец. Хитроумный Хирумицу ринулся было разглядывать идентификационный номер Стасова ствола, но ушлый ментовский палец предусмотрительно прикрыл циферки. Я облегченно вздохнула и переглянулась с Михал Ефимычем.
Весьма характерен и убедителен был в своей роли и оперуполномоченный Серега Трифонов, сыгравший организатора канала переброски в Японию азербайджанских пистолетов. Как и положено такому солидному бандюку, Серега пришел на встречу с японскими журналистами в дирижерском фраке, взятом напрокат у музыкального двоюродного брата… Тут, справедливости ради, я вступлюсь за собственную честь. Вовсе не все от начала до конца этого документального фильма было чистой воды мистификацией. Были настоящие интервью с колоритным владельцем оружейных магазинов, охранниками разных мастей и законными обладателями карабинов «Сайга». Были съемки города В., вид с Голубиной сопки, милицейских стрельбищ и памятника адмиралу Макарову. Хорошая, в общем, была работа.
Когда я дописывала заказанную евреями псевдоинтеллектуальную хуйню, у меня начался страшный насморк и температура подскочила до 39, и дурацкие мысли лезли из меня вместе с соплями, и душе требовался стакан воды, но подать его было некому, да и пить, как водится, тоже не хотелось. Я страдала стереотипом нестандартного мышления, креном на правое крыло и ненавистью к японской поэзии. Я ненавидела танки, хокки, хайки, город В. и его открыточные рассветы. Я завидовала сдохшим за ночь бабочкам. Однако мне было все-таки лучше, чем стрельцам: те вообще только-только уснули, когда их разбудили на казнь.
А простыла я потому, что в ночь накануне слишком долго болталась в небе. Дело в том, что, гуляя с Банценом над Эгершельдом, я видела две падающие звезды. Над Эгершельдом вообще хорошо видно звезды. Это потому, что Эгершельд — полуостров, и город В. со своими фонарями плетется где-то сзади: можно встать к нему спиной, и он исчезнет совсем. Одна звезда свалилась за остров Русский, вторая упала прямо на мыс Голдобин, и меня какое-то время очень беспокоила судьба Центра слежения за судами. Я загадала два желания: 1) улететь; 2) улететь.
Полетав в небе еще с час, мы с Банценом вернулись домой. Впервые в жизни я успела загадать два желания. И не потому вовсе, что реакция у меня стала лучше, а потому, что звезды падали медленно. Но у меня оставалась еще одна не поведанная звездам прихоть, и я целый час летала кругами над заливом: ждала — может, свалится еще какая звезда, но ни одна больше не скатилась. Хорошего помаленьку; и так две мечты коню под хвост.
А дома незнакомый мужской голос в телефоне попросил меня принять факс с прайсами. Он перезванивал много раз, но мы с ним так и не подружились, хотя проболтали по телефону остаток ночи.
— Здрасьте. Примите факс. Это порт?
— Нет.
— Как это нет?!
Звонок.
— Это порт?
— Нет.
— Ёб твою мать.
Звонок.
— Факс с прайсами, здрасьте.
— Это не порт.
— А что?
Звонок.
— Факс примите?
— С прайсами?
— Да.
— Шлите. Приму.
— А это порт?
— Нет.
Звонок.
— Это порт?
— Да.
— Совсем охуели там.
Да, у меня отросли крылья, — думала я, глядя в рассвет за окном, — а что толку? У чаек они тоже есть. Например, одна, не вписавшись в разворот над морем, накакала мне на окно, и перламутровый чаячий росчерк упал на панораму Босфора. Очень красиво.
2
Ох уж эти мне окна. Окна, за которыми разговаривают ни о чем, варят еду на завтра, устраивают постирушки, раскладывают постель и заводят будильник, чтоб не проспать на работу, после которой снова сюда, к домашней еде «суп», пододеяльникам в цветочек и — к своим, с которыми можно ни о чем, но с которыми тепло и безопасно. Конечно, за некоторыми окнами холодней, чем на улице, а ведь уже почти лето, уже листья на деревьях потемнели, но это не твой город, не твои листья и, что самое скверное, среди всех этих окон нет такого, из которого можешь, отогнув угол шторы, выглянуть на подсвеченную желтыми фонарями улицу. Ты в чужом городе, и чужие окна сладко травят твои глаза, и они начинают слезиться — вечерний конъюнктивит, сопровождающийся комом в горле и соплями в носу.
И когда ты наконец решаешься позвонить по телефону, который тебе дали еще перед отъездом сюда: «Это моя одноклассница, мы с ней не виделись после школы, но иногда переписываемся», — и за каким-то из этих окон берут трубку и говорят: «Ну приезжай», — ты стараешься не обращать внимания на «ну», потому что почти счастлив. Записываешь адрес, номер трамвая и название остановки, и уже через полчаса за твоей спиной греют суп и ставят на стол тарелки, а ты всматриваешься в окно с домашней стороны и, в общем-то, не хочешь в эти минуты никакого супа: суп — это уже эмоциональное излишество. Когда у меня появилось такое окно, я украла у его хозяев две кассеты «Agfa», продала их в бичхоле за девять рублей и выкинула бумажку с телефоном, потому что объяснить, каким образом кассеты переметнулись со стеллажа ко мне в трусы, я не смогла бы даже себе (это теперь я знаю, что украла кассеты из вежливости, просто чтоб не злоупотреблять гостеприимством, а супа раз в неделю все равно было слишком мало для жизни). Впрочем, совсем скоро — даже девять рублей не успели кончиться — мне дали направление на мой первый пароход, где я сразу же объелась котлет и меня рвало ими до шести утра.
Так что когда у меня (спустя пароходство и дядю Борю), владелицы двух собственных зашторенных окон почти в центре города В. и Яхтсмена в рейсе, зазвонил телефон и я услышала текст: «Это Гриша, Тетигалин сын, я тут мичман, меня с Техаса на корабль перевели», — то что я могла сказать? Я сказала: «Приезжай, конечно», — без всяких «ну». Гришу я вспомнила, но меня поразило, что пацана в приспущенных коричневых колготках и с вечным пальцем в носу взяли мичманом на Тихоокеанский флот. С момента нашей последней встречи довольно противный сын тети Гали стал еще противнее. От супа Гриша отказался (в моем доме супа в ту пору и не водилось — в отсутствие морского мужа я вечно жарила себе какие-то гренки). У Гриши была увольнительная на целые сутки, а в кино он уже сходил. Мичману сверхсрочной службы просто захотелось окон вместо иллюминаторов.